Читать онлайн Семиярусная гора бесплатно
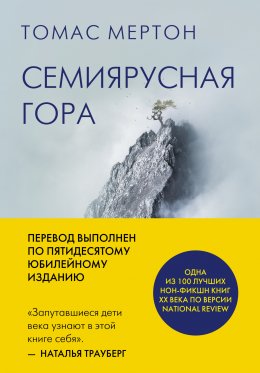
CHRISTO
VERO
REGI[1]
Thomas Merton
THE SEVEN STOREY MOUNTAIN
An Authobiography of Faith
Copyright © Thomas Merton, 1998. This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency
Перевод с английского Светланы Высоцкой
Под редакцией Андрея Кириленкова
© Высоцкая С.В., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Редкое удовольствие – читать автобиографию, где выведена судьба, значимая для каждого из нас. «Семиярусную гору» хочется читать с карандашом в руке, соотнося жизнь автора со своей собственной.
Грэм Грин, английский писатель
Книга будет неизменно привлекать всех, кому интересен религиозный опыт.
Ивлин Во, английский писатель
«Семиярусная гора» ─ это современная «Исповедь» св. Августина.
Архиепископ Фултон Шин
Именно к таким книгам люди будут обращаться и через сто лет, чтобы узнать, что творилось в сердцах людей в этом жестоком веке.
Клэр Бут Люс, американский драматург, журналистка, дипломат
Замечательная книга, классическая в своем роде, написанная ярким, богатым и живым языком, легко переходящим от сочной разговорной речи к страстной риторике, от живописания событий к религиозному воодушевлению..
The Times Literary Supplement
Мертон был прежде всего человеком молитвы, мыслителем, который бросил вызов убеждениям своего времени и открыл новые горизонты для душ и для Церкви.
Папа Римский Франциск
Предисловие издателя
Роберт Жиру
«Семиярусная гора» была впервые опубликована пятьдесят лет назад, в октябре 1948 года. Как видно из дневника Томаса Мертона, он начал работать над автобиографией на четыре года раньше, в траппистском монастыре в Кентукки, куда приехал в декабре 1941 года в возрасте двадцати шести лет, оставив должность преподавателя английской литературы в Колледже Св. Бонавентуры в Олеане, штат Нью-Йорк. «Есть человек, – писал Мертон, – в определенном смысле еще в большей, чем я, степени ответственный за появление “Семиярусной горы”, равно как он же был причиной появления всех остальных моих произведений». Этим человеком был дон Фредерик Данн[2], аббат, который принял Мертона в качестве кандидата, а в марте 1942 года – в качестве послушника ордена траппистов.
«Все свои инстинкты писателя я принес с собой в монастырь», – свидетельствует Мертон, добавляя, что настоятель «поддерживал меня, когда я хотел записывать стихи, размышления или что-то другое, что приходило в голову во время моего послушничества». Дон Фредерик предложил Мертону написать историю своей жизни, и поначалу послушник делал это с большой неохотой. В конце концов, он ведь решил стать монахом для того, чтобы оставить позади прошлую жизнь. Однако стоило начать писать, и работа пошла. «Не знаю, какую именно аудиторию я видел перед собой, – признавался Мертон, – мне кажется, я высказывал то, что было во мне, пред лицом Бога, который знает, что во мне». Через некоторое время он попытался «смягчить» первоначальный набросок текста ради траппистских цензоров, остро критиковавших его в особенности за описание лет, проведенных в Колледже Клер (Кембриджский университет), когда он стал отцом незаконнорожденного ребенка (ребенок, по всей вероятности, погиб вместе со своей матерью во время бомбардировки Лондона). За это Мертон был «отослан» – исключен – из колледжа, и его английский опекун (оба родителя Мертона умерли) посоветовал ему покинуть Англию, объяснив, что о дипломатической карьере в Лондоне можно забыть. Мертон отправился в Америку и поступил в Колумбийский колледж, где мы и встретились в 1935 году.
В Соединенных Штатах все еще царила Великая депрессия, времена были серьезные, серьезными были и студенты университета. Среди моих и Мертона сокурсников были Эд Рейнхардт, сделавшийся известным художником, Джон Латуш, прославившийся в мире музыкального театра, Герман Воук, знаменитый романист, Джон Берримен, ставший выдающимся поэтом, Роберт Лэкс, Эдвард Райс, Роберт Гибни и Сай Фридгуд, близкие друзья, связанные с Мертоном работой в юмористическом журнале колледжа «Джестер», и Роберт Герди, ставший впоследствии редактором «Нью-Йоркера».
Мы встретились в кампусе, когда Мертон пришел в офис «Колумбия Ревью», литературно-художественного журнала, издававшегося в колледже, и показал мне рукописи – рассказ и несколько рецензий, которые мне понравились и которые я принял. Про себя я подумал: «Этот парень – писатель». Это был коренастый, голубоглазый человек, с редеющими светлыми волосами, живой речью и легким британским акцентом. Он был студентом предпоследнего курса, я – выпускного. Он рассказал мне о своем увлечении джазом и Гарлемом, кино – особенно У. К. Филдсом, Чаплином, Китоном, братьями Маркс, Престоном Стёрджесом, интерес к которым разделял и я. Нам обоим нравился Марк Ван Дорен как учитель. Пару раз мы смотрели фильмы в старой «Талии»[3], и конечно, в эти левацкие времена такие слова как религия, монашество, богословие, никогда не всплывали. Я окончил университет в июне 1936-го, не смог найти работу в книжном издательстве (как надеялся), и устроился в CBS [4]. А в декабре 1939-го Фрэнк В. Морли, глава отдела продаж «Харкорт Брэйс энд Компани», с одобрения Дональда С. Брэйса (который основал эту выдающуюся фирму вместе с Альфредом Харкортом в 1919 году) нанял меня в качестве младшего редактора. Среди первых рукописей, которые мне предстояло оценить, был роман Томаса Джеймса Мертона, предложенный Наоми Бартон из литературного агентства «Кёртис Браун Лимитед». Героем «Дуврского пролива» был студент Кембриджа, который перевелся в Колумбийский университет и увлекся бестолковой миллионершей, танцовщицей, поклонницей индийской музыки и левых идей. Все действие происходило в Гринвич-Виллидж[5]. Я согласился с другими издателями, что автор талантлив, но сюжет топчется на месте и оканчивается ничем. Шесть месяцев спустя Наоми прислала «Лабиринт», улучшенный вариант того же романа, который также был отвергнут.
Впервые после окончания колледжа мы случайно встретились в книжном магазине Скрибнера на Пятой авеню, это было в мае или июне 1941 года. Я листал книги и почувствовал, что кто-то коснулся моего плеча. Это был Мертон. «Том! – воскликнул я. – Рад тебя видеть. Надеюсь, ты все еще пишешь?» «Ну, – ответил он, – я только что из “Нью-Йоркера”, они хотят, чтобы я написал для них о Гефсимании». Я понятия не имел, что это такое, и сказал ему об этом. «О, это траппистский монастырь в Кентукки, куда я ушел». Это открытие меня ошеломило. Я и подумать не мог, что с Мертоном произошло религиозное обращение и он интересуется монашеством. «Что ж, – надеюсь прочесть, что ты об этом напишешь, – сказал я. – Для “Нью-Йоркера” это будет нечто совершенно необычное». «Ну что ты, – ответил он, – я бы в жизни не подумал писать об этом». Это объяснило мне многое. Только сейчас я понял, какая необыкновенная перемена произошла с Мертоном. Я пожелал ему всего доброго, и мы расстались.
В следующий раз я услышал о нем от Марка Ван Дорена, когда под Новый год позвонил старому учителю поздравить его. «Том Мертон стал траппистским монахом, – сказал Марк. – Возможно, мы больше никогда о нем не услышим. Он оставляет мир. Необыкновенный молодой человек. Я всегда думал, что он станет писателем». Том оставил у Марка рукопись, «Тридцать стихотворений», и Марк позднее предложил ее моему другу Джею Лафлину в «Нью Дайрэкшнз», который и опубликовал ее в 1944 году. Мы еще не знали, как много книг последует за ней.
Частично одобренный текст «Семиярусной горы» достиг Наоми Бартон в конце 1946 года. Ее реакция, как отметил Том в своем дневнике, была положительной. «Она уверена, что книга найдет издателя. Во всяком случае, моя идея – и ее тоже – послать ее Роберту Жиру в “Харкорт Брэйс”». Эта запись датирована 13-м декабря. Четырнадцать дней спустя он записал в своем дневнике: «Вчера за обедом отец настоятель передал мне телеграмму. … Первая мысль, которая пришла мне в голову – что рукопись “Горы” потерялась. Наоми Бартон передала ее в “Харкорт-Брэйс” только неделю назад. Я прекрасно знаю, что издатели всегда заставляют вас ждать по меньшей мере пару месяцев, прежде чем что-нибудь ответят. … Я подождал, пока закончится обед, и тогда открыл телеграмму. Она была от Боба Жиру и гласила: “Рукопись принята. Счастливого Нового года!”»
Получив рукопись от Наоми Бартон, я стал читать ее с нарастающим интересом и взял домой, чтобы закончить ночью. Хотя текст начинался плохо, но вскоре делался лучше, и я был уверен, что, с некоторыми сокращениями и редактированием, он вполне может быть опубликован. Мне ни на минуту не пришло в голову, что он станет бестселлером. Поскольку Фрэнк Морли оставил фирму, моим временным непосредственным начальником был Дональд Брэйс. Я просил его прочесть рукопись, но он уклонился, спросив: «Как думаешь, мы потеряем на ней деньги?» «О, нет, – ответил я, – думаю, она найдет свою аудиторию». Я рассказал ему, что Том – мой соученик по Колумбийскому университету (Брэйс и Харкорт тоже были «колумбийцами») и я не уверен, что я в должной мере объективен. «Мертон пишет хорошо, – добавил я, – и мне хотелось бы, чтобы вы на это взглянули, Дон». (Я только что стал главным редактором.) «Нет, Боб, – ответил он, – если тебе нравится, – берем». На следующий день я позвонил Наоми с хорошим (на тот период) предложением, которое она приняла от имени монастыря. (Мертон, естественно, не получал ни пенни от своих гигантских впоследствии гонораров, поскольку дал монашеский обет бедности; весь доход шел общине.) Потом я отправил телеграмму в монастырь.
С редакторской точки зрения тут было две проблемы – неуместное эссе-проповедь в начале повествования, и необходимость сокращений. Книга открывалась образчиком неподходящего «прекрасного» стиля. Начало было такое:
Каждый раз, когда зачинается человек, когда человеческая природа возникает как индивидуальное, конкретное существо, отдельная жизнь, личность, – в мире снова запечатлевается образ Божий. Свободная, витальная, способная к саморазвитию сущность, дух, оживляющий плоть, комплекс энергий, готовых начать движение к плодотворному развитию, загорается потенциальным светом, разумом и добродетелью, возгорается любовью, без которой не существует дух. Она готова к познанию неведомых высот. Жизненный центр этого нового творения есть свободное и духовное начало, зовущееся душой. Душа есть жизнь этого существа, а жизнь души есть любовь, которая соединяет ее с началом всякой жизни – Богом. Тело, которое соткалось здесь, не будет жить вечно. Когда душа, жизнь, покинет его, оно умрет…
И так далее, на много-много страниц. Я обратил внимание Тома на то, что он пишет автобиографию, и читатель прежде всего захочет узнать, кто такой автор, откуда родом и как сюда попал. Начало было слишком абстрактным, затянутым, скучным. Он охотно принял критику и, в конце концов, нашел правильное вступление. В книгах, которые становятся классикой («Классика – это книга, которая остается в печати» – Марк Ван Дорен), начальные слова часто кажутся единственно возможными, словно иных и быть не могло – «Зовите меня Измаил», «Все счастливые семьи похожи друг на друга», «Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен»[6]. Новое вступление у Мертона начиналось так: «Я появился на свет в тени французских гор на границе с Испанией в последний день января 1915 года, под знаком Водолея, в разгар великой войны». Оно личное, конкретное, живое и сразу вовлекает читателя в сюжет. Оставалась еще работа, связанная с редакторской шлифовкой – убрать лишнее многословие, повторы, длинноты, скучные пассажи. Должен сказать, что Мертон чутко отзывался на замечания и охотно вносил все эти мелкие исправления. «“Гору” действительно было необходимо урезать, – писал он другу. – Объем был невозможный. Редактор в “Харкорте” был, есть, мой друг Боб Жиру. …Когда слышишь, как твои слова читают вслух в трапезной, начинаешь жалеть, что они вообще были написаны».
Затем, в разгар работы над подготовкой издания, наступил кризис. Мертон сообщил Наоми, что один из цензоров, приславший свое мнение последним, отказал в разрешении на публикацию книги! Не зная, что у автора подписан контракт, этот престарелый цензор из другого аббатства возражал против «разговорного стиля» Мертона, который казался ему неподобающим для монаха. Он советовал отложить книгу до тех пор, пока Мертон не «научится писать на достойном английском языке». Наоми выразила и мое мнение, когда написала: «Мы считаем, что твой английский – очень высокого уровня». У нас сложилось впечатление, что эти анонимные цензоры не пропустили бы и «Исповедь» св. Августина, будь у них такой шанс. В этих обстоятельствах я посоветовал Мертону обратиться к генеральному аббату во Франции, и к нашему облегчению генеральный аббат написал, что стиль автора – его личное дело. Это разрядило атмосферу, и цензор благоразумно отозвал свой отзыв. (Лично я подозреваю, что Мертон, родившийся во Франции, написал генеральному аббату – который не читал и не говорил по-английски – на таком прекрасном французском, что тот сделал вывод, что и английский его льется как песня.) Наконец, «Гору» можно было публиковать.
Когда летом 1948 года были получены предварительные оттиски, я решил послать их Ивлину Во, Клэр Бут Люс, Грэму Грину и епископу Фултону Шину.[7] К моему удовольствию, все они отозвались в похвальных и даже превосходных тонах, и мы использовали цитаты из отзывов на суперобложках и в рекламных объявлениях. На этой стадии мистер Брэйс повысил тираж с 5 000 до 12 500, а позже, когда книгу закупили три книжных клуба[8], – до 20 000 экземпляров. В ноябре, спустя месяц после публикации, был продан 12 951 экземпляр, а в декабре число продаж подскочило до 31 028. С середины декабря до конца новогодних праздников обычно бывает затишье, и число заказов снижается, потому что книжные склады к тому времени переполнены. Но следующий период продаж был поразителен – «Гора» стала бестселлером! Теперь в это трудно поверить, но «Нью-Йорк Таймс» отказалась включить книгу в свой еженедельный топ-список на том основании, что «это религиозная книга». В мае 1949 года, когда монастырь пригласил меня и других друзей Мертона на его рукоположение, я взял с собой в качестве подарка стотысячный экземпляр книги в особом сафьяновом кожаном переплете. (Когда я был там в прошлом году, брат Патрик Харт, в прошлом секретарь Мертона, показал мне эту книгу на полке в библиотеке.) Записи показывают, что более 600 000 экземпляров книги в первоначальном тканевом переплете были проданы в первые 12 месяцев. Ну а на сегодняшний день, конечно, общее число продаж, включая издания в бумажном переплете и переводы, достигает нескольких миллионов, и из года в год «Гора» продолжает продаваться.
Почему успех «Горы» столь сильно превзошел мои ожидания как редактора и издателя? Почему, несмотря на то, что она была исключена из списка бестселлеров, продажи были столь впечатляющи? Издатели не могут сделать из книги бестселлер, хотя некоторые читатели (и некоторые авторы) в это верят. Здесь всегда присутствует элемент тайны: почему именно эта книга, именно в этот момент? Мне кажется, самое существенное – это правильное время, что обычно нельзя предвидеть. «Гора» появилась на свет в период больших разочарований: мы победили во Второй мировой войне, но началась холодная война, и люди были разочарованы и подавлены, искали пути вновь обрести уверенность. Во-вторых, – история Мертона необычна – хорошо образованный, способный четко выражать свои мысли молодой человек уходит – почему? – в монастырь. История хорошо рассказана, живо и красноречиво. Без сомнения, были и другие факторы, но на мой взгляд, эта комбинация – правильный предмет, представленный в правильное время – обеспечила первоначальный успех книги.
Одним из показателей влияния, которое имела книга, было возмущение, вызванное ею в некоторых кругах – не только у враждебно настроенных критиков, но и в среде религиозных людей, которые считали, что монаху не подобает писать. Я помню полученное с почтой гневное письмо, в котором говорилось: «Скажите этому болтливому трапписту, давшему обет молчания, чтобы он заткнулся!» Хотя молчание – традиционная часть жизни траппистов, они не приносят такого обета. Практика молчания (ради углубленного созерцания) не исключает взаимного общения (они общаются знаками). Для таких подстрекателей у меня был ответ: «Писательство есть форма созерцания».
Однажды случился и такой занятный инцидент: вскоре после публикации у меня раздался телефонный звонок из полицейского участка где-то на Среднем Западе[9]. Арестовали за нарушение общественного порядка какого-то пьяного, громогласно заявлявшего, что он – Томас Мертон и что он оставил монастырь. Полиция просила меня поговорить с ним, но я отказался: «В этом нет необходимости. Просто спросите у него имя его литературного агента». Конечно, он не знал ее имени, чем и изобличил в себе самозванца.
Известность, последовавшая за публикацией книги, стала для Тома источником смущения еще и потому, что он скоро перерос себя двадцатилетнего и чрезвычайно развился как мыслитель и писатель. Подобно Гекльберри Финну, он быстро взрослел. Изо всех писателей, которых я знал, – а я знал некоторых великих – ни у кого не было такого быстрого интеллектуального роста, ум его зрел и углублялся с годами поразительным образом. Если он ждал, что «уйдет» из мира, то этого не произошло. Наоборот, по мере того как росли его писательская деятельность и слава, он стал получать письма от Бориса Пастернака из России, доктора Дайсэцу Судзуки из Японии, доктора Луи Массиньона и Жака Маритена из Франции, каноника А.М. Олчина из Кентерберийского кафедрального собора, поэта Чеслава Милоша из Польши, доктора Абрахама Джошуа Хешеля из Еврейской богословской семинарии в Нью-Йорке[10]. Многие другие, знаменитые и безвестные люди, с которыми он состоял в переписке, все больше и больше расширяли его кругозор.
За два года до смерти он написал предисловие к японскому изданию «Семиярусной горы», в котором выразил отношение к книге, написанной почти двадцать лет назад:
Если бы я попытался написать эту книгу сегодня, она, возможно, была бы другой, кто знает? Но она написана тогда, когда я был еще довольно молод, и такой останется. Эта история больше не принадлежит мне.… Поэтому, высокочтимый читатель, я хотел бы говорить с тобой не просто как автор, рассказчик, как философ или друг. Я бы хотел говорить с тобой как в некотором смысле твое собственное “я”. Кто скажет, что это значит? Я сам не знаю, но если ты слушаешь, то возможно, услышишь то, что не написано в книге. И это будет не благодаря мне, но благодаря Тому, кто живет и говорит в нас обоих.
Томас Мертон умер в 1968 году во время конференции восточных и западных монахов в Бангкоке. Сегодня, накануне пятидесятой годовщины выхода в свет «Семиярусной горы», мне снова вспоминаются слова Марка Ван Дорена, которые и Том и я студентами слышали в его классе: «Классика – это книга, которая остается в печати».
1998
Пояснения для читателей
Уильям Х. Шеннон
Президент-основатель Международного общества Томаса Мертона
«Семиярусная гора» увидела свет 4 октября 1948 года и сразу возымела успех. Ее провозгласили «версией» «Исповеди» Августина для двадцатого века, она вот уже пятьдесят лет продолжает пользоваться неизменным покупательским спросом. Ивлин Во, не самый снисходительный критик, пророчески писал, что «Семиярусная гора» «вполне может оказаться предметом постоянного интереса для историков религиозного опыта». Грэм Грин предположил, что это «автобиография, пример и смысл которой ценны для всех нас». Ее читательская аудитория все расширялась, выйдя далеко за пределы страны происхождения. Появилось более двадцати переводов на иностранные языки; одним из последних стал китайский.
Опубликованная всего через три года после окончания Второй мировой войны, «Семиярусная гора» сразу задела за живое читателей в Америке, а затем и в других частях света. Время было выбрано идеально: она вышла как раз тогда, когда люди, утратившие иллюзии после войны и ищущие смысла в жизни, были подготовлены к тому, чтобы услышать хорошо рассказанную историю молодого человека, чьи поиски завершились замечательным открытием.
Тем не менее, как и любая классическая работа, «Семиярусная гора» нуждается в некотором введении для нового читателя. Поскольку она выходит в специальном юбилейном издании, эти пояснения могут оказаться полезными, предвосхитив некоторые трудности и предложив разъяснения, которые облегчат читателю подход к книге и дадут более ясное понимание того, о чем говорит Томас Мертон, когда он с юношеским воодушевлением рассказывает историю своего обращения в католическую веру.
Я вижу в «Семиярусной горе» три основных момента, которые могут удивить или смутить читателя. Это пронизывающая ее несовременная религиозная атмосфера, недостающие сведения о том, что читателю хотелось бы знать, но о чем умалчивает автор, и интерпретация, которую писатель дает своему рассказу.
Религиозная атмосфера
Эта книга написана молодым монахом, дивно счастливым в первые годы своего пребывания в траппистском монастыре и все еще находящимся под ярким впечатлением от своего опыта обращения, и она, конечно же, является откровенно римско-католической. Но Римско-Католическая Церковь, с которой вы сталкиваетесь в этой книге, бесконечно далека от той церкви, которую мы знаем сегодня. Сегодняшняя церковь – это продукт революции (и это не слишком сильное слово), запущенной Вторым Ватиканским собором.
Церковь до Второго Ватикана, в которой был крещен Мертон, все еще спорила – даже три столетия спустя – с протестантской Реформацией XVI века. Для нее характерен «осадный» менталитет, она выстраивала линию обороны вокруг своих доктринальных и моральных принципов, упорно цепляясь за прошлое. Будучи обособленным институтом, она не выказывала большого желания открыться навстречу вопросам и потребностям мира, переживавшего огромные и беспрецедентные изменения. Церковь гордилась стабильностью и неизменностью своего учения в условиях изменчивого мира. К тому времени, когда Мертон написал свою книгу, римско-католическое богословие превратилось в набор готовых ответов на любые вопросы. Полемическое и апологетическое по тону, оно было призвано доказать, что католики правы, а все остальные неправы. Это высокомерие и самоуверенное превосходство очаровательно запечатлены в рассказе Брендана Бихана о католическом епископе Коркском, который в ответ на сообщение своего секретаря о смерти епископа Коркского Церкви Ирландии самодовольно заметил: «Теперь он знает, кто настоящий епископ Корка».
Сегодня, когда эта косная церковная атмосфера отделена от нас пятью десятками лет, может быть трудно понять восторг, с которым Томас Мертон принял триумфалистский менталитет церкви. Тем не менее, как и многие новообращенные, нашедшие свой путь в церковь после многих лет бесцельного блуждания, он с самого начала принял ее целиком и полностью. Он был счастлив сменить сомнения и неуверенность своего прошлого на неоспоримую и беспрекословную уверенность Католической Церкви середины двадцатого века. Уверенный в своей принадлежности к «единственно истинной» церкви, он слишком часто пренебрежительно отзывается о других христианских церквах, отражая тем самым самодовольный триумфализм церкви. Еще пятьдесят лет назад это представляло собой проблему для некоторых читателей, принадлежавших к другим религиям, которые чувствовали силу книги, но были смущены ее религиозной узостью. Одна молодая женщина, явно тронутая прочитанным, посетовала: «Почему он так язвительно отзывается о протестантах? Неужели они настолько плохи?» Сегодняшнему читателю легче увидеть эту узость в ее исторической перспективе и отнестись к ней спокойнее.
Люди по-прежнему читают «Семиярусную гору», потому что их захватывает история о том, как Мертон приходит к этой уверенности. Мы увлечены тем, как этот молодой человек пытается что-то сделать со своей дотоле неорганизованной жизнью. Сегодня, на пороге нового тысячелетия, мы сочувствуем его поискам, хоть и не всегда тому конкретному направлению, которое они приняли. Человеческая притягательность Мертона, его горячая убежденность, живой рассказ этого прирожденного писателя преодолевают узкие рамки его богословия. Его история содержит извечные элементы нашего общечеловеческого опыта. Именно это и делает ее глубоко универсальной.
Недостающая информация
В начале лета 1940 года Томас Мертон, принятый францисканским орденом, жил в Олеане и планировал в августе вступить во францисканский новициат, но в середине лета его внезапно охватило беспокойство. Он понял, что не рассказал начальнику новициата всей истории своей жизни. В его прошлом были факты, которые он не раскрыл. Он вернулся в Нью-Йорк, чтобы «рассказать всё», надеясь, что его прошлое не будет иметь значения. По всей видимости, оно имело. Ему посоветовали отозвать свое прошение о принятии к францисканцам. Надежды его разбились вдребезги. Убитый горем, он искал работу и получил место преподавателя в Университете Святого Бонавентуры.
В 1948 году – да и позже – читатели не подозревали, что он имел в виду, говоря «рассказать всё». Несколько лет спустя всплыла история о том, что во время учебы в колледже Клэр в Кембридже сексуальные влечения Мертона, не сопровождаемые каким-либо пониманием их истинного человеческого значения, навлекли беду не только на него, но и на незамужнюю женщину, родившую от него ребенка. Больше ничего не известно ни о ней, ни о ребенке. Однажды (в феврале 1944 года) Мертон попытался связаться с ней, но она словно исчезла.
После сокрушительного опыта в Нью-Йорке Мертон был убежден, что ему навсегда закрыт путь в римско-католическое священство. Он не раскрывает читателям причину этого убеждения, но оно, видимо, было основано на разговоре с начальником францисканского новициата. «Семиярусная гора» умалчивает о том, что было сказано в этом разговоре. Однако спустя год с небольшим францисканский священник в Сент-Бонавентуре сказал Мертону, что он ошибался, полагая, что если его отвергли францисканцы, то он никогда не сможет стать священником. Для его посвящения не было никаких препятствий. Это известие позволило ему отправиться в траппистский монастырь в Кентукки, где в 1949 году он был рукоположен в сан священника.
Авторская интерпретация
Подобно многим великим произведениям, история Мертона может быть прочитана на трех разных смысловых уровнях. Во-первых, это исторический уровень: что на самом деле произошло в его жизни. Во-вторых, это уровень памяти: что Мертон смог вспомнить о событиях своей жизни. Память часто избирательна, а это значит, что вспоминаемое прошлое может не всегда совпадать с историческим прошлым. Наконец, есть уровень монашеского суждения. Под этим я подразумеваю, что Мертон писал «Семиярусную гору» как монах. Его монашеская ревность окрашивает то, как Томас Мертон (его монашеское имя было отец Людовик) рассказывает эту историю. «Семиярусная гора» – это, я полагаю, история молодого человека по имени Томас Мертон, которого судит монах по имени отец Людовик. Читателю полезно иметь в виду, что временами монах склонен быть довольно суровым в своих суждениях о молодом человеке.
Томас Мертон заканчивает свой рассказ словами: «Sit finis libri, non finis quaerendi». Их можно перевести так: «Пусть это будет концом книги, но ни в коем случае не концом поиска». Это пророческие слова. Мертон «Семиярусной горы» не исчез, он просто вырос. Его позднейшие произведения – это история его роста вплоть до зрелости и открытости будущему. Наблюдение за этим ростом и есть то наслаждение, которое ожидает тех, кто обратится после «Семиярусной горы» к его позднейшим сочинениям.
Часть первая
Глава 1
Дом пленника[11]
I
Я появился на свет в тени французских гор на границе с Испанией в последний день января 1915 года, под знаком Водолея, в разгар Великой войны. От природы свободный по образу Божию, я был пленником собственной жестокости и эгоизма, – по образу мира, в который был рожден. Мир представлял собой картину ада, полный таких же как я людей, любящих Бога и в то же время ненавидящих Его; рожденных любить Его, но вместо того живущих в плену страха и своих безнадежно противоречивых желаний.
В нескольких сотнях миль от дома, где я родился, на берегах Марны, в лесах под деревьями с обгоревшими ветками, еще собирали человеческие тела, разлагающиеся в размытых дождями окопах среди трупов лошадей и разбитых орудий.
Мать и отец были пленниками этого мира. Они знали, что не принадлежат ему и не имеют своего места в нем, но и скрыться от него нет возможности. Они были в мире, но не от мира – не потому, что были святыми, но иным образом: они были художниками. Целостность и чистота художника возвышает его над миром, не отрывая от него.
Мой отец писал, как Сезанн, и понимал южнофранцузский пейзаж так, как его понимал Сезанн. Его видение мира было здраво, исполнено равновесия и благоговейного подхода к структуре, отношениям масс[12] и всем тем частностям, в которых запечатлена неповторимость каждого творения. Его взгляд религиозен и чист, а живопись – свободна от украшений и излишних пояснений, поскольку религиозный человек бережно относится к праву Божия творения самому свидетельствовать о себе. Отец был очень хорошим художником.
Ни один из моих родителей не страдал теми мелкими зловещими предрассудками, которые владеют людьми, не интересующимися ничем, кроме автомобилей, кино, газет, собственного холодильника да соседских разводов.
Я унаследовал от отца его взгляд на вещи и отчасти его прямоту, а от матери – некоторую неудовлетворенность хаосом, в котором пребывает мир, и разносторонность интересов. От обоих я получил способность к труду и созерцанию, наслаждению и самовыражению, которые сделали бы меня настоящим королем, если бы мир жил по законам истины. Не то чтобы у нас было много денег, нет, но любому глупцу известно: для того, чтобы наслаждаться жизнью, деньги не нужны.
Если бы верно было то, что большинство людей принимает как данность, – если бы для того, чтобы быть счастливым, нужно было всё охватить, всё увидеть, исследовать всякий опыт, а потом рассказать о нем, – я был бы очень счастливым человеком, духовным миллионером, от младых ногтей и поныне.
Если бы счастье зависело только от природных даров, я бы не поступил, придя в возраст мужа, в траппистский монастырь.
II
От концов земли[13] пришли мои отец и мать в Прад[14]. Они думали остаться, но пробыли здесь ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы я успел родиться и встать на ножки, а затем снова уехали. Они продолжили, а я начал, довольно долгое путешествие: для всех троих оно теперь, так или иначе, окончено.
Мой отец прибыл через океаны с другой стороны планеты, но пейзажи Крайстчерча в Новой Зеландии, где он родился, походили на предместья Лондона, только, пожалуй, были немного чище. В Новой Зеландии больше солнечного света, и думаю, люди там здоровее.
Отца звали Оуэн Мертон. Оуэн – потому что семья его матери в течение одного или двух поколений жила в Уэльсе, хотя я думаю, что происходили они из Низинной Шотландии[15]. Отец моего отца был учителем музыки и человеком благочестивым, преподавал он в колледже Христа, Крайстчерч, на Южном острове.
Отец был человеком энергичным и независимым. Он рассказывал мне, как жилось в той холмистой стране и в горах Южного острова, как он бывал на овцеводческих фермах и в лесах, и как однажды, когда через эти края проходила Антарктическая экспедиция, он едва не отправился с ней на Южный полюс. Он бы, конечно, замерз и погиб вместе со всеми, потому что это была та самая экспедиция, из которой никто не вернулся[16].
Решив обучаться живописи, отец столкнулся с большими трудностями – непросто было убедить родственников, что это и есть его настоящее призвание. Но в конечном счете он отправился в Лондон, затем в Париж, а там встретил мою мать, женился на ней, и так никогда больше не вернулся в Новую Зеландию.
Мама была американка. Я видел портрет, рисующий ее хрупкой, тоненькой маленькой особой с трезвым взглядом, серьезным и каким-то тревожным, очень чутким выражением лица. Это совпадает с моим воспоминанием о ней – беспокойная, педантичная, быстрая, требовательная ко мне, своему сыну. Но в семье ее помнили веселой и беззаботной. После маминой смерти бабушка хранила крупные локоны ее рыжих волос, и эхо ее счастливого смеха еще школьной, детской поры никогда не смолкало в бабушкиной памяти.
Мне представляется теперь, что мама была человеком неутоленных мечтаний и во всем жаждала совершенства: в искусстве, в обустройстве интерьера, танцах, домашнем хозяйстве, воспитании детей. Может быть, поэтому я и помню ее преимущественно озабоченной: несовершенство мое, ее первого сына, стало ужасным обманом ее ожиданий. Эта книга, даже если она ничего не объяснит, по крайней мере даст понять, что я точно не был ребенком чьей-либо мечты. Я читал дневник, который вела мама во времена моего младенчества и раннего детства и в котором отразилось ее удивление упорным и на первый взгляд случайным развитием совершенно непредсказуемых черт моего характера, принять которые она явно не была готова: например, глубокое и серьезное стремление поклоняться огню газовой горелки на кухне. И это при полном отсутствии какого-либо ритуала и культа в моей жизни в возрасте четырех лет. Вообще ни Церкви, ни формальной религиозности в деле воспитания современного ребенка мама не придавала значения и, догадываюсь, считала, что если меня предоставить себе самому, я вырасту милым, тихим деистом, не развращенным никаким суеверием.
Мое крещение в Праде было почти наверняка идеей отца, потому что он вырос с глубокой и прочной верой, основанной на учении Англиканской церкви. Но не думаю, что в водах крещения, которое я получил в Праде, было достаточно власти, чтобы сорвать путы с первозданной свободы или освободить душу от демонов, присосавшихся к ней словно пиявки.
Отца привела в Пиренеи глубокая личная мечта, более цельная, более конкретная и более практичная, чем мамины многочисленные и навязчивые идеалы совершенства: отец хотел найти во Франции место, где бы он мог поселиться и поднимать семью, писать и жить – практически ни на что, потому что жить было практически не на что.
В Праде у родителей было много знакомых, и когда они туда перебрались, расставили мебель в квартире, когда холсты загромоздили угол комнаты, а воздух наполнился запахами свежих масляных и акварельных красок, дешевого трубочного табака и домашней стряпни, – приехали еще друзья из Парижа. И вот уже мама пишет холмы, стоя под большим полотняным зонтом, а отец – под открытым солнцем, друзья пьют красное вино и любуются на долину Канигу и монастырь на склоне горы.
В этих горах было много разрушенных монастырей. С благоговением мысль моя возвращается к этим чистым, древним каменным обителям, с низкими, мощно скругленными арками. Они вытесаны и воздвигнуты монахами, чьи молитвы, быть может, и привели меня туда, где я теперь нахожусь. У св. Мартина и св. Михаила Архангела, покровителя монахов, были в этих горах посвященные им церкви. Сен-Мартен-дю-Канигу и Сен-Мишель-де-Кюкса. Странно ли, что я питаю теплые чувства к этим местам?
Спустя двадцать лет один из монастырей, разобранный по камням, последовал за мною через Атлантику и был заново отстроен в удобной близости от меня – именно тогда, когда мне более всего было необходимо увидеть, как выглядит монастырь и в каком месте следует обитать человеку, если он желает жить в соответствии со своей разумной природой, а не как бездомный пес. Сен-Мишель-де-Кюкса целиком воссоздан в образе довольно опрятного маленького музея в парке на окраине Нью-Йорка с видом на реку Гудзон[17], причем таким образом, что ничто не напоминает о том, в каком именно городе вы на самом деле находитесь. Называется он – Клойстер. Полностью искусственный, он все же хранит достаточно подлинности, чтобы служить упреком всему, что его окружает, за исключением деревьев и Палисадов.
Приезжавшие в Прад друзья моих родителей привозили свернувшиеся в трубку в карманах пальто газеты и письма – почтовые открытки с патриотическими картинками, на которых союзники одерживают верх над немцами: в Америке дедушка и бабушка, мамины родители, волновались о нас, потому что мы жили в стране, где идет война. И постепенно становилось ясно, что мы не можем более оставаться в Праде.
Мне едва исполнился год, и я ничего не помню о путешествии, о том, как мы отправились в Бордо и сели на корабль, на верхней палубе которого стояла пушка. Не помню ни того, как пересекали океан, ни опасений встретить немецкую подлодку, ни прибытия в Нью-Йорк, на землю, где не было войны. Зато легко могу вообразить первую встречу моих американских дедушки и бабушки с прежде не знакомыми зятем и внуком.
Папаша, как назвали в семье моего американского дедушку, был жизнерадостным и деятельным человеком. Где бы он ни оказался – на пристани, на корабле, в поезде, на станции, в лифте, в автобусе, в гостинице, в ресторане – он немедленно приходил в возбуждение и начинал отдавать распоряжения всем подряд, что-нибудь организуя, а потом снова отменяя в самый ответственный момент. Бабушка же, которую мы звали Бонмаман, представляла собой полную противоположность деду, и ее природная осторожность, нерешительность и неприязнь к деятельности каждый раз возрастали обратно пропорционально неуемной активности Папаши. И чем более энергичным делался Папаша, чем больше он кричал и раздавал указания, тем более неуверенной и сомневающейся становилась бабушка, и в конце концов делалась совершенно инертной. Впрочем, это безобидное и совершенно неосознаваемое противоречие, тогда, в 1916-м, еще не развилось во всю полноту сложности, которой оно достигло лет пятнадцать спустя.
Не сомневаюсь, что некий конфликт поколений имел место, поскольку отец и мама решили непременно найти себе какое-нибудь отдельное жилье. Это был маленький домик, старый и рахитичный, стоявший под тремя высокими соснами во Флашинге[18], который тогда был скромным провинциальным городком на Лонг-Айленде. Мы жили посреди полей, простиравшихся в сторону Килджордана, Джамейки и старой Труант-Скул[19]. В домике было четыре комнаты, две наверху и две внизу, половина из которых едва ли больше кладовки. Дом, наверное, был очень дешевый.
Домовладелец, мистер Дагган, держал неподалеку салун. Он немало досаждал отцу, угощаясь ревенем, который мы выращивали в саду. Помню серые сумерки летнего вечера, когда случилось некое происшествие. Мы ужинали и вдруг узрели согнутую спину мистера Даггана, двигавшегося подобно киту в зеленом море ревеня: он выдергивал сочные красные стебли. Отец вскочил и поспешил в сад. До меня донеслись возмущенные голоса. Мы сидели за столом молча, перестав есть, а когда отец вернулся, я принялся его расспрашивать, пытаясь уразуметь мораль этой истории. Помню, что она произвела на меня впечатление сложного случая, в котором обе стороны имели много чего сказать друг другу. В результате я пришел к выводу, что домовладелец, если пожелает, может просто прийти и собрать урожай наших овощей, и мы ничего не можем с этим поделать.
Я делюсь этим воспоминанием, вполне сознавая, что кое-кто охотно повернет его против меня, заявив, что настоящая причина, по которой я стал монахом в зрелые годы – это привитый с колыбели менталитет средневекового крепостного.
Отец старался много писать. Он заполнил несколько альбомов эскизами, закончил несколько акварелей с видами береговой линии Нью-Йорка, и впоследствии даже участвовал в выставке, организованной местными художниками где-то во Флашинге. Через два дома от нас, вверх по улице, в белом доме с заостренными фронтонами, окруженном широкими просторными газонами, с конюшней, превращенной в живописную студию, жил Брайсон Берроуз[20], писавший бледные классицистические картины в духе Пюви де Шаванна. Он был очень добр и относился к нам с той же мягкостью, которая трогает и в его картинах.
И все-таки отцу не удавалось содержать нас на доходы от живописи. В годы войны мы жили на то, что он зарабатывал в качестве садовника-декоратора, и это был в основном физический труд. Он не только планировал и разбивал сады для богатых соседей, но и много работал на земле, высаживал растения и ухаживал за ними: на это мы и жили. Отец не зря получал свои деньги. Он был очень хорошим садовником, понимал цветы и знал, как заставить деревья расти. И самое главное – он любил это занятие почти так же сильно, как живопись.
Позже, в ноябре 1918 года, за неделю до перемирия в этой странной Мировой войне, родился мой младший брат. Он был гораздо более безмятежного нрава, нежели я, безо всяких смутных душевных движений и порывов. Помню, всех поражала его ровная и невозмутимая радость. Долгими летними вечерами его укладывали спать задолго до захода солнца, но вместо того, чтобы протестовать и драться, как делал я, когда нужно было отправляться в постель, он лежал наверху в колыбельке, и мы слушали, как он напевает свою песенку. Каждый вечер это была одна и та же мелодия, очень простая, милый короткий напев, очень подходивший и ко времени суток, и ко времени года. И здесь, внизу, убаюканные этим пением младенца в колыбельке, мы все слегка притихали и следили взглядом за солнечным лучом, скользившим наискосок через поля к нашим окнам. День кончался.
У меня был воображаемый друг, по имени Джек, а у того – воображаемый пес, по кличке Дулитл. Главной причиной, почему у меня появился воображаемый друг, было отсутствие по соседству детей, с которыми можно было играть, а мой братик, Джон-Пол, был слишком мал. Когда я пробовал искать развлечения, наблюдая за джентльменами, играющими в бильярд в салуне мистера Даггана, меня ждали неприятности. Еще я мог пойти играть к Берроузам, в их сад, или даже в дом, где было много старого хлама, разбросанного по всей мастерской. Бетти Берроуз знала, как поддержать игру безо всякого намека на превосходство, хотя она была почти взрослой. Но что касается друзей моего возраста, их я должен был искать в своем воображении. И возможно, это было не очень хорошо.
Поначалу мама не возражала против моей воображаемой компании, пока однажды, когда мы с ней отправились за покупками, я не отказался переходить Мэйн-стрит во Флашинге, потому что реальные машины могли задавить Дулитла, воображаемую собачку. Описание этого эпизода я прочел позднее в ее дневниковых записях.
К 1920 году я умел читать, писать и рисовать. Однажды я нарисовал дом и всю семью, как мы сидим на траве под соснами, расстелив одеяло, и послал картинку Папаше по почте. Он жил в Дугластоне, милях в пяти от Флашинга. Но по большей части я рисовал корабли – океанские лайнеры со множеством труб и сотнями иллюминаторов, а вокруг волны, зазубренные как пила, и небо со множеством «галочек», изображавших чаек.
Все изменилось после незабываемого визита моей новозеландской бабушки. Как только окончилась война, она явилась из Страны Антиподов, чтобы навестить своих разбросанных по Европе и Америке детей. Кажется, она привезла с собой одну из тетушек, но наибольшее впечатление произвела на меня сама Бабуля. Видимо, она часто со мной говорила, задавала массу вопросов и много рассказывала сама. И хотя я плохо помню подробности этого визита, общее впечатление, которое она оставила – это почтение, благоговение и любовь. Она была очень доброй и ласковой, но в ее привязанности не было ничего нарочитого или чрезмерного. Я смутно помню, как она выглядела. Память сохранила только, что носила она темную одежду – серое и темно-коричневое, что у нее были очки и седина, а речь спокойная и убедительная. Она была учительницей, как и ее муж, мой новозеландский дедушка.
Яснее всего я помню, что за завтраком она клала соль в овсянку. Вот в этом я уверен: это произвело на меня сильное впечатление. В чем я менее уверен, но что в действительности гораздо более важно: она научила меня Молитве Господней. Возможно, еще раньше с «Отче наш» познакомил меня мой земной отец, но я никогда ее не читал. Все же, несомненно, именно Бабуля спросила меня однажды вечером, прочел ли я свои молитвы. Выяснилось, что я не помню «Отче наш», и она научила меня. Впоследствии я уже никогда не забывал эту молитву, хотя ни разу за многие годы ее не произнес.
Может показаться странным, что отец и мать, столь скрупулезно заботившиеся о том, чтобы сохранить умы своих сыновей в здравии от заблуждений, серости, вздора и фальши, не позаботились дать нам хоть какую-то формальную религиозную подготовку. Единственное объяснение, которое мне приходит на ум – что у мамы были вполне определенные взгляды на этот счет. Вероятно, она считала всякую организованную религию не достойной того уровня интеллектуального совершенства, которого ждала от своих детей. Во всяком случае, во Флашинге мы никогда не ходили в церковь.
Помню, однажды я очень хотел пойти в церковь, но в тот раз мы не пошли. Было воскресенье, возможно даже Пасха, года, видимо, 1920-го. За полями, над красным зданием соседской фермы за деревьями виднелся шпиль церкви Св. Георгия. Через освещенные солнцем поля до нас долетел звук церковных колоколов. Я играл перед домом и остановился послушать. Вдруг в ветвях над моей головой разом запели птицы, и звуки птичьего пения и церковных колоколов наполнили мое сердце радостью. Я закричал отцу:
– Папа, смотри – у птиц своя церковь.
А потом спросил:
– Почему мы не ходим в церковь?
Отец посмотрел вверх и сказал:
– Мы пойдем.
– Сейчас?
– Нет, сейчас слишком поздно. Но мы пойдем в какое-нибудь другое воскресенье.
Однако сама мама иногда воскресным утром уходила на богослужения. Сомневаюсь, чтобы отец сопровождал ее, вероятно, он оставался дома следить за мной и Джоном-Полом, – потому что нас никогда в церковь не брали. Как бы то ни было, мама ходила в старинный молитвенный дом на собрания квакеров. Это единственная форма религии, которую она хоть как-то признавала, и полагаю, само собой разумелось, что, когда мы подрастем, нам будет дозволено двинуться в том же направлении. Видимо, предполагалось, что взрослые не должны были оказывать на нас никакого давления, и нам предстояло разобраться во всем самостоятельно.
Между тем домашнее мое образование развивалось в направлении, заданном неким прогрессивным методом, о котором мама вычитала в одном из своих журналов. Она откликнулась на объявление с портретом бородатого ученого в пенсне и получила из Балтимора комплект книг, какие-то списки, и даже парту и маленькую школьную доску. Идея состояла в том, чтобы дать возможность современному разумному ребенку освоиться среди всего этого инструментария и непринужденно развиться в этакий микроуниверситет годам к десяти.
Призрак Джона Стюарта Милля[21], должно быть, скользнул по комнате и вздохнул одобрительно, когда я открыл крышку парты и приступил к учению. Я забыл, что из этого всего вышло, но помню, как однажды меня отослали спать очень рано за то, что я упорно произносил по буквам слово «which» не называя первого «h»: «w-i-c-h»[22]. Помню тяжкие раздумья по этому поводу: «Что им вообще от меня нужно?» В конце концов, мне было всего пять лет.
Тем не менее, я не держу зла ни на причудливый метод обучения, ни на парту, которая к нему прилагалась. Наверно, вместе с ними появилась в доме и книга по географии – любимая книга моего детства. Я очень любил, разглядывая карты, играть в Дом Пленника и даже мечтал стать моряком. Я просто горел желанием поскорей окунуться в ту бесшабашную и беспокойную жизнь, которая уже поджидала меня.
Моя вторая любимая книга утвердила меня в этом желании. Это был сборник рассказов под названием «Греческие герои». Читать самому викторианскую версию греческих мифов мне было не по силам – читал вслух папа, и я знакомился с Тезеем и Минотавром, с Медузой, Персеем и Андромедой. Вот Ясон плывет в дальние края за золотым руном. Вот Тезей возвращается с победой, но забывает сменить черные паруса, и царь Афинский бросается с утеса в море, думая, что сын его мертв. В те дни я узнал имена Гесперид, и именно из всего этого подсознательно составились смутные фрагменты той религии и философии, которые, оставаясь до поры скрытыми и неявными, в должный час заявили о себе глубокой и полной приверженностью собственным суждениям, собственной воле, и – при стойком отвращении к любого рода зависимости – свободе моих собственных, вечно изменчивых горизонтов.
В известном смысле именно это и должно было стать плодом моего начального образования. Мама хотела, чтобы я стал самостоятельным и не бежал в общей упряжке. Я должен был вырасти оригинальным, непохожим на прочих, должен был иметь характер и собственные идеалы. Я не должен быть сводом параграфов, сборной конструкцией, продуктом конвейерной линии, изготовленным по общебуржуазному образцу.
Если бы мы продолжили так же, как начинали, если бы Джон-Пол и я так и выросли в этом доме, возможно, такой викторианско-греческий комплекс постепенно оправдал бы себя, и мы превратились бы в этаких добропорядочных и основательных скептиков, учтивых, разумных, и даже в каком-то смысле полезных. Мы могли бы стать успешными авторами или книгоиздателями, профессорами в небольших прогрессивных колледжах. Наши дороги были бы гладкими, а я, возможно, никогда не стал бы монахом.
Но еще не время говорить об этом счастливом исходе, о том, за что я более всего благодарю и славлю Бога, и что явилось, пожалуй, самым парадоксальным осуществлением замыслов обо мне моей матушки – последнее, о чем она могла бы помыслить: ее забота о свободном развитии сработала бумерангом.
О как много возможностей лежало предо мной и братом в те дни! Свежее сознание только начинает существование в качестве реальной, действенной функции души. Выбор вот-вот станет ответственным. Ум еще чист, не оформлен, готов принять любой набор идей и развиваться под влиянием наиболее совершенных из них, под влиянием самой благодати, божественных смыслов, будь у меня такая возможность.
Здесь была воля, нейтральная, ненаправленная, – сила, ждущая применения, готовая породить огромные внутренние энергии – света или тьмы, мира или конфликта, порядка или хаоса, любви или греха. Выбирая путь в различных обстоятельствах, моей воле предстояло обрести направление, которое в конечном счете определило бы движение всего моего существа к счастью или боли, жизни или смерти, небу или преисподней.
Более того: коль скоро никогда и никто не может и не мог жить сам по себе и для себя одного, то моему выбору, решениям и желаниям предстояло неизбежно влиять, косвенно или непосредственно, на судьбы тысяч других людей. Точно так же, как и моей собственной жизни предстояло формироваться и меняться в согласии с их жизнями. Я вступал в моральную вселенную, в которой я связан с каждым разумным существом, и в которой все мы, подобно густому рою пчел, тянем друг друга к некоему общему итогу – добра или зла, мира или войны.
Одним воскресным утром, думаю, уже после того, как маму увезли в больницу, мы с отцом отправились в молитвенный дом квакеров. Он объяснил мне, что люди приходят сюда и сидят молча, ничего не делая, пока Святой Дух не подвигнет кого-либо говорить. Еще он сказал, что там будет знаменитый пожилой джентльмен, один из основателей движения бойскаутов Америки, Дэн Берд[23]. Так что, пока я сидел среди квакеров, три вопроса приблизительно в равной степени занимали мой ум. Кто из них Дэн Берд? Просто так он зовется «Бородой» или и правда у него на подбородке растут волосы? И что, собственно, Святой Дух хочет подвигнуть этих людей сказать?
Не помню ответа на последний вопрос, но, когда человек, сидящий за высокой деревянной кафедрой и председательствующий над квакерами, подал знак, что встреча подошла к концу, я увидел Дэна Берда среди людей, выходящих на низенькую солнечную галерею за дверьми молельного дома. Борода у него была.
Скорее всего, это случилось в 1921 году, последнем в жизни мамы: отец получил место органиста в Епископальной церкви Дугластона. Работа эта не сильно вдохновляла и радовала его, он не очень ладил со священником. Но зато я стал ходить по воскресеньям в церковь, что, собственно, и заставляет меня думать, что мама была в больнице, а я, по-видимому, жил в Дугластоне с Папашей и Бонмаман.
Старая Сионская церковь представляла собой белое деревянное здание с приземистой квадратной колокольней. Она стояла на холме, окруженная высокими деревьями, посреди большого кладбища, а в крипте, под церковью, были похоронены родоначальники семьи Дуглас. Те самые, что первыми поселились здесь, на берегу Пролива, несколько сотен лет назад. По воскресеньям тут было довольно мило. Помню процессию, выходящую из ризницы, череду мужчин и женщин, одетых в белые стихари поверх черных одежд, впереди несут крест. Позади алтаря – высокие окна с витражами, одно из них украшено якорем. Этот образ особенно меня привлекал, ведь я мечтал уйти в море и странствовать по свету. Довольно странная интерпретация религиозного символа, обыкновенно призванного означать постоянство в Надежде, символ богословской добродетели[24], неизменного упования на Бога. Мне же он рисовал прямо противоположные картины: путешествия, приключения, морской простор и неограниченные перспективы человеческого героизма, с главным «героем» в моем лице.
Еще там был аналой в виде орла с распростертыми крыльями, на котором покоилась огромная Библия. Рядом висел американский флаг, чуть повыше – небольшая доска, какие бывают в протестантских церквях, на ней выставлялись черно-белые карточки с номерами исполняемых гимнов. Мне нравилось смотреть, как зажигают свечи, как собирается народ, как поют гимны, когда отец, спрятанный где-то позади хора, играет на органе.
Люди выходят из церкви с чувством покоя и удовлетворения, словно исполнено то, что необходимо было исполнить, – это все, что я мог тогда понять. Теперь, когда я размышляю много лет спустя, я нахожу прекрасным, что в моем детстве были хотя бы эти крохи религии. Потому что таков закон человеческой природы, вписанный в само его существо, точно такая же часть нас самих, как стремление строить дома, возделывать землю, создавать семью и иметь детей, читать книги, петь песни – нам необходимо стоять рядом с другими людьми и исповедовать наше общее упование на Бога, нашего Отца и Создателя. На самом деле это необходимость куда более фундаментальная, чем любые физические потребности.
И каждый вечер отец играл на фортепиано в маленьком кинотеатре, который открылся в соседнем городке. Нам очень нужны были деньги.
III
Главная причина, почему мы нуждались в деньгах, состояла в том, что у мамы был рак желудка.
Это еще одна вещь, которую мне никогда не объясняли. Все, что связано с болезнью и смертью, старались по возможности от меня скрывать. Потому что от размышлений о подобных предметах ребенок может сделаться нездоров. И поскольку я должен был расти, сохраняя добрый, ясный, оптимистичный, уравновешенный взгляд на жизнь – меня ни разу не взяли навестить маму с тех пор, как она легла в больницу. И это было полностью ее решение.
Не могу сказать, как долго, уже болея и страдая, она старалась ради нас вести дом, не без лишений и трудностей, причем так, чтобы мы не знали, чего ей это стоило. Возможно, именно из-за ее болезни моя память и воскрешает ее тоненькой и бледной, и довольно строгой.
С эгоизмом, необычным даже для ребенка, я обрадовался переезду из Флашинга в дедушкин дом в Дугластоне. Здесь мне позволялось делать почти все, что я хочу, здесь было полно еды, а еще – жили две собаки и несколько кошек, с которыми я мог играть. Я не очень скучал по маме, и не плакал, когда мне не позволяли навестить ее. Я был доволен, что можно бегать в лесу с собаками, лазать по деревьям, возиться с цыплятами или играть в маленькой чистой мастерской Бонмаман, где она расписывала фарфор и обжигала его в маленькой печке.
Однажды папа дал мне прочесть короткое письмо. Я очень удивился. Оно было адресовано мне лично и написано маминым почерком. Она никогда раньше не писала мне – не было повода. Только тогда я понял, что происходит, хотя, помнится, язык письма был мне не очень доступен. Одно стало ясно: мама извещала меня, по почте, что она скоро умрет, и мы больше никогда не увидимся.
Я ушел с письмом под большой клен, росший на заднем дворе, и перечитывал его снова и снова, до тех пор, пока не добрался до сути и не уяснил, что оно на самом деле значило. Страшный груз уныния придавил меня. Это не было детской бедой с приступами печали и обильными слезами. Здесь было нечто от тяжелой безысходности и мрачности взрослого горя, и потому оно было настолько же неестественно, насколько тягостно. Наверное, отчасти потому, что мне пришлось добираться до правды в основном путем умозаключений.
Молитва? Нет, я и не помышлял о ней. Какой дикостью это должно казаться католику – шестилетний ребенок, обнаруживший, что умирает его мать, даже не знает, что о ней можно молиться! Только двадцать лет спустя, став католиком, я, наконец, начал молиться о матери.
Своей машины у дедушки с бабушкой не было, машину наняли, чтобы ехать в больницу, когда все кончилось. Я отправился вместе со всеми, но мне не позволили зайти внутрь. Может быть, так было и правильно. Что хорошего, если бы я окунулся в омут обнаженного страдания и эмоционального краха без молитвы, без Таинств, которые помогли бы уравновесить и упорядочить их, помогли бы извлечь из них какой-то смысл? Тут мама была права. Смерть просто безобразна, если в ней нет высшего смысла. Зачем отягощать ребенка ее зрелищем?
Я сидел снаружи, в машине, рядом с наемным водителем. И опять не знал, что происходило. Наверно к этому времени я уже подсознательно смирился с тем, что мама действительно умрет. Потому что, если бы я хотел убедиться, это было бы нетрудно.
Кажется, прошло очень много времени.
Автомобиль был припаркован во дворе, окруженном со всех сторон мрачными кирпичными строениями, почерневшими от густо покрывавшей их сажи. Вдоль одной из стен тянулся длинный низкий навес, с краев стекали струйки дождя. Мы сидели молча и слушали стук капель о крышу машины. Небо тяжелело тучами и туманом, и приторные нездоровые запахи больницы и газовой станции мешались с душным воздухом автомобиля.
Когда отец, Папаша, Бонмаман и дядя Гарольд показались в больничных дверях, мне не нужно было задавать вопросов. Все они были просто раздавлены горем.
Мы вернулись домой в Дугластон, и отец уединился в своей комнате. Я пошел за ним: он плакал, прислонившись к окну.
Наверное, он думал о тех предвоенных днях, когда впервые встретил в Париже маму, когда она была так весела, так счастлива, танцевала и была полна надежд, планов и замыслов о себе, о нем и их будущих детях. Все сложилось не так, как они мечтали. И теперь все было кончено. Бонмаман в пустой комнате заворачивала в тонкую папиросную бумагу тяжелые пряди рыжих маминых волос, упавших из-под ножниц, когда мама была маленькой девочкой, и плакала, плакала горько.
Через день или два наняли ту же машину, для другого путешествия, и я был определенно рад, что на этот раз остался в машине.
Мама почему-то всегда хотела, чтобы ее кремировали. Я думаю, что это вписывается в общую схему ее философии жизни: мертвое тело есть просто нечто, от чего следует как можно скорее избавиться. Вспоминаю, как в нашем доме во Флашинге, крепко обернув тряпицей голову, чтобы уберечь волосы от пыли, целеустремленно, энергично, она мыла, мела, чистила комнаты. И этот образ словно помогает понять ее нетерпимость ко всякой бесполезной и распадающейся материи. Это – то, с чем нужно покончить безотлагательно. Когда жизнь окончена, пусть кончится все, раз и навсегда.
Снова шел дождь, небо было темным. Я не могу припомнить, – вероятно, тетушка Этель (кузина моей матушки, которую звали миссис Макговерн и которая была сиделкой) осталась со мной в машине, чтобы мне было не так тоскливо. Но я был очень удручен. Хотя наверно, не так безнадежно несчастен, как если бы поднялся вместе со всеми в это угрюмое страшное место и стоял бы за стеклянной стеной, глядя как гроб с телом мамы медленно скользит меж створок стальных дверей, ведущих в печь.
IV
Мамина смерть сделала очевидной одно: теперь отец может целиком посвятить себя живописи. Он больше не привязан к месту. Он волен ехать куда захочет, искать натуру и идеи, и я уже достаточно взрослый, чтобы отправиться с ним.
Однажды, когда я уже провел несколько месяцев в местной школе в Дугластоне и перешел во второй класс, располагавшийся в дурнопахнущем флигеле на вершине холма, отец вернулся в Нью-Йорк и объявил, что мы переезжаем на новое место.
С чувством некоторого торжества я следил за тем, как русло Ист-Ривер расширяется и переходит в пролив Лонг-Айленд, и ждал, когда наш корабль, идущий в Фолл-Ривер, во всем своем великолепии стремительно минует устье бухты Бэйсайд, а я брошу на Дугластон прощальный взгляд из открытого моря и обращусь к новым горизонтам, под названием Фолл-Ривер, Кейп-Код, Провинстаун.
Мы не могли позволить себе каюту и спали на самой нижней палубе, в переполненном третьем классе, среди шумных итальянских семейств и цветных мальчишек, которые коротали ночь, бросая кости при тусклом освещении. Над нашими головами шумели волны, и было понятно, что мы находимся гораздо ниже ватерлинии.
Утром мы сошли на берег в Фолл-Ривер, прошлись по улице мимо текстильных мануфактур, нашли фургончик-закусочную, заполненную мужчинами, заглянувшими перекусить по дороге на работу. Мы сели у стойки и заказали яичницу с ветчиной.
Весь день после этого мы ехали в поезде. Перед тем, как пересечь большой черный разводной мост через канал Кейп-Код, отец вышел на какой-то станции, зашел в магазин на другой стороне улицы и принес мне плитку шоколада Бейкера. Она была в голубой обертке с изображением дамы в старомодном чепце и фартуке, подающей чашки с горячим шоколадом. Я был ошеломлен, удивлен и благоговел пред столь щедрым даром. Сладости у нас всегда строго дозировались.
Потом было долгое путешествие через песчаные дюны, с остановками на каждой станции, я сидел в каком-то вялом оцепенении, с вязким, приевшимся вкусом шоколада во рту, и снова и снова перебирал в уме названия мест, которые мы проезжали: Сэндвич, Фалмут, Труро, Провинстаун. Особенно меня занимало слово Труро. Я не мог отделаться от него: Труро. Труро. Имя было пустынно и одиноко, как морской горизонт.
Это лето было заполнено низкими песчаными дюнами и грубой травой, жесткой, как проволока, прораставшей сквозь белый песок. Над песками дул ветер, я следил за бурунчиками в сером морском просторе, дружно бегущими к суше, – передо мной был океан. География становилась явью.
Городок Провинстаун насквозь пропах дохлой рыбой. Здесь было несметное количество рыбацких лодок всех размеров, пришвартованных вдоль причалов, можно было весь день скакать по палубам шхун, и никто тебе не мешал и не прогонял. Я вдыхал запах просмоленных канатов и соли, белого дерева палуб, ни с чем не сравнимый аромат морских водорослей у причала.
Когда я заболел свинкой, отец читал мне книгу Джона Мейсфилда[25], в которой было много картинок плывущих судов, а единственным наказанием, которое я припомню за все лето, был мягкий выговор за то, что я отказался есть апельсин.
К тому времени, как мы вернулись в Дугластон и отец оставил меня с дедушкой и бабушкой, у которых все это время жил Джон-Пол, я научился рисовать шхуны и барки, клиперы и бриги и знал много больше о том, как их различить, чем помню сейчас.
Я вновь стал посещать шаткую серую пристройку Общественной школы, но, кажется, всего пару недель – вряд ли больше. Потому что отец отыскал новое место, куда он хотел отправиться писать картины. А найдя его, вернулся забрать свои художественные принадлежности и меня. И мы снова отправились вместе. Это были Бермуды.
В те времена на Бермудах не было ни больших отелей, ни гольф-клубов, о которых любят поговорить. Они ничем не были знамениты. Это был просто симпатичный остров, омываемый Гольфстримом, в двух-трех днях пути от Нью-Йорка, где британцы держали небольшую военно-морскую базу, где не было автомобилей, да и вообще почти ничего не было.
Мы сели на небольшое судно с красно-черной трубой, которое называлось «Форт Виктория», и на удивление скоро, лишь только мы покинули гавань Нью-Йорка, из пенных бурунов у носа суденышка стали выскакивать летучие рыбки и скользить над поверхностью теплых волн. И хотя я очень старался не пропустить появление острова, он возник внезапно, и стал пред нами, зелено-белый в лиловых волнах. Уже можно было разглядеть маленькие белые коралловые домики[26], сиявшие на солнце чище и белее, чем сахар. Ближе к нам краски в тенях приглушались волнами, и над песчаным дном становились изумрудными, а там, где поверхность воды скрывала скалы – цвета лаванды. Осторожно маневрируя, мы продвигались меж бакенов, отмечавших проход сквозь лабиринт рифов.
Близ верфи острова Ирландия стоял английский военный корабль «Калькутта»; отец указал мне на Сомерсет[27], там, среди темно-зеленых кедров, и было то место, где нам предстояло жить. Добрались мы туда только к вечеру. Как тихо и пусто было на Сомерсете, в сгущающихся сумерках! Наши ноги мягко ступали в густую пыль пустынной дороги. Было тихо, даже ветерок не шевелил бумажные листья бананового дерева, не колыхал олеандры. Мы разговаривали, и голоса казались слишком громкими. Это был очень приветливый остров. Двое случайных прохожих поздоровались с нами, словно со старыми знакомыми.
К зданию пансионата примыкала зеленая веранда со множеством крутящихся стульев. Темно-зеленая краска слегка облупилась. На веранде сидели британские офицеры (или кем уж там были эти постояльцы), курили свои трубки, молчали или беседовали о предметах, весьма далеких от благочестия. Отец опустил сумки на пол. Нас ждали. В сумерках мы сели ужинать, и я быстро привык к мысли, что мы дома.
Почти невозможно вывести какой-то общий смысл из постоянного перекраивания нашей жизни и планов, происходившего в моем детстве из месяца в месяц. Но каждая перемена казалась мне разумной и уместной. Иногда я ходил в школу, иногда нет. Иногда мы с отцом жили вместе, иногда я оставался с чужими людьми и виделся с ним лишь время от времени. Разные люди входили в нашу жизнь и исчезали из нее. Сегодня у нас была одна компания друзей, завтра другая. Все постоянно менялось, я всё принимал. И с какой стати мне должно было приходить на ум, что больше так никто не живет? Эта жизнь казалась мне такой же естественной, как смена времен года или погоды. Я знал одно: целыми днями я могу бегать где угодно, делать что хочу, и жизнь была прекрасна.
Когда отец съехал из пансионата, я остался и жил там еще какое-то время, потому что рядом была школа. Отец поселился в другой части Сомерсета, с какими-то людьми, которых там встретил, и проводил дни за работой, писал пейзажи. К концу зимы, проведенной на Бермудах, он написал столько картин, что смог устроить выставку, и это дало достаточно денег, чтобы вернуться в Европу. А пока я ходил в местную школу для белых детей, расположенную рядом с большим общественным полем для крикета, и меня постоянно корили за полную неспособность постичь правила умножения и деления.
Должно быть, отцу было не просто принимать решения, связанные со мною. Он хотел, чтобы я ходил в школу, и в то же время – чтобы я был с ним. Когда оба условия оказались несовместимы, он сначала выбрал школу. Однако после, понимая, в каком месте мне пришлось остаться и какие разговоры я слышу целый день при всей открытости и некритичности моего восприятия, он забрал меня из школы и увез жить к себе. Я был очень рад этому, потому что избавился от бремени умножения и деления в столбик.
Беспокойство доставляла только моя бывшая учительница, проезжавшая мимо меня на велосипеде по дороге из школы домой. Завидев ее, я тут же прятался, боясь, что она пошлет школьного надзирателя отыскать меня и заставит вернуться в школу. Однажды вечером я не заметил ее приближения и слегка замешкался, ныряя в кусты, которыми поросла опустевшая каменоломня. Посматривая украдкой сквозь ветви, я следил, как она медленно поднимается по белому холму, оглядываясь через плечо.
День за днем солнце изливало свет на синие воды моря, на острова в бухте, на белый песок в излучине бухты, на белые домики, льнущие к склону холма. Вспоминаю, как однажды я глядел в небо и мне пришло в голову поклониться облаку, край которого напоминал профиль Минервы в шлеме – голову дамы в боевом облачении на большом британском пенни[28].
Отец оставил меня на Бермудах со своими друзьями, литераторами и художниками, а сам отправился в Нью-Йорк, где у него должна была быть выставка. Она собрала хорошие отзывы в прессе, и много картин было продано. С тех пор, как мамина смерть освободила его от необходимости работать садовником-декоратором, стиль его заметно развился, стал более абстрактным, оригинальным, а картины – проще и определеннее. Думается, что тогда люди в Нью-Йорке еще не оценили силу его живописи и то направление, в котором развивался его талант. К примеру, Бруклинский музей[29] предпочел купить пейзажи, которые на их взгляд отдаленно напоминали Уинслоу Гомера, а не те, что отражали подлинную самобытность отца. На самом деле объединяло отца и Уинслоу Гомера только то, что оба писали акварельные пейзажи субтропиков. Как акварелист, отец скорее напоминал Джона Марина[30], но без свойственной Марину поверхностности.
Когда закончилась выставка, картины были проданы и в папином кармане появились деньги, я вернулся с Бермуд и обнаружил, что отец собирается отплыть с друзьями во Францию, а меня оставляет в Америке.
V
Контора Папаши всегда казалась мне замечательным местом: запах пишущих машинок, клея, канцелярских принадлежностей нес в себе нечто освежающее и бодрящее. Атмосфера была живой и деятельной, все были как-то особенно дружелюбны, потому что очень любили Папашу. Сгусток энергии[31] – вот подходящее ему определение. Энергия била в нем через край, и большинство людей веселели, когда он пробегал мимо них, щелкая пальцами и шлепая по каждому столу свернутым в трубочку свежим номером «Ивнинг Телеграм».
Папаша работал на Гроссета и Данлапа[32], издателей, специализировавшихся на дешевых переизданиях популярных романов и детских книжках приключенческого плана. Именно они открыли миру Тома Свифта с его электротехническими изобретениями, а также братьев Ровер, Джерри Тодда и других[33]. Здесь было несколько больших помещений, где выставлялись все эти книги и куда я мог прийти, забраться в большое кожаное кресло и читать без помех хоть целый день, пока не войдет Папаша, чтобы забрать меня к Чайлдс, пообедать цыпленком à la king.
Шел 1923 год, и «Гроссет и Данлап» были на вершине преуспеяния. Именно в это время Папаша переживал большой взлет своей карьеры. Он продал своим работодателям идею публиковать книги по мотивам популярных кинофильмов, иллюстрировать их кадрами и продавать в непосредственной связи с рекламой самих картин. Идея очень быстро возымела успех и не выходила из моды все двадцатые годы. Она принесла компании большую прибыль и стала краеугольным камнем личного финансового благополучия Папаши, а с ним и всей семьи на ближайшие пятнадцать лет.
«Черные буйволы», «Десять заповедей», «Вечный город», и уж не помню, что еще, заполнили книжные лавки и мелкие магазинчики в каждом маленьком городке от Бостона до Сан-Франциско, блистая портретами Полы Негри и других звезд того времени[34].
В те дни фильмы все еще иногда снимали на Лонг-Айленде, и не раз мы с братом и приятелями слышали, что на Алли-Понд[35] снимают какие-то эпизоды. Однажды, сидя под деревьями, мы наблюдали то, что, видимо, должно было изображать цыганскую свадьбу Глории Свэнсон и какого-то забытого героя. Главное действо заключалось в том, что жениху и невесте вскрывали запястья и прибинтовывали их друг к другу, чтобы их кровь смешалась: таков был цыганский свадебный обряд в представлении авторов этого бессмертного шедевра. Откровенно говоря, нас все это не очень заинтересовало. Мы были детьми, и у нас хватило здравого смысла, чтобы счесть идею излишне тяжеловесной. Куда увлекательнее было, когда У. К. Филдс[36] приехал в Алли-Понд снимать эпизоды небольшой комедии. Сначала они установили камеры перед рассыпающимся от старости домишкой. Не помню, был ли наш герой пьян, или просто напуган, но дверь внезапно распахивалась, и У. К. Филдс вываливался оттуда и скатывался по ступенькам так лихо, что трудно было понять, как ему удается достигнуть земли, не переломав ребер и обеих ног. После того, как он проделал это бесчисленное количество раз с неимоверным упорством и поистине стоическим терпением, камеры перевели на близлежащую груду бревен, и стали снимать следующий эпизод. Рядом был крутой, поросший кустарником и лесом склон, оканчивающийся настоящим обрывом футов шести высотой. Внизу поместили пару ленивых, совершенно безобидных коров. И вот У. К. Филдс продирается через кусты, спотыкаясь, цепляясь и падая в паническом бегстве от невидимого преследователя. Оглядываясь, он не замечает обрыва, и обрушивается вниз, приземляясь прямо на двух томных коров, которые по сценарию должны были от испуга бешено сорваться с места, унося на себе героя. Однако, они позволяли Филдсу с глухим стуком приземлиться к ним на спину, и продолжали жевать траву с самым скучающим видом, терпеливо ожидая, пока он не свалится на землю и не начнет вновь карабкаться вверх по склону, чтобы повторить всё сначала.
Я рассказываю это потому, что кино было поистине семейной религией в Дугластоне.
В то лето, в 1923 году, Папаша и Бонмаман, взяв с собой Джона-Пола, отправились в Калифорнию и посетили Голливуд, причем не как простые туристы, поскольку Папаша был знаком по работе со многими кинематографистами. Это путешествие скорее напоминало паломничество, когда они лицом-к-лицу-свиделись-с-самим-Джеки-Куганом, но нам никогда не удавалось дослушать до конца, что именно Джеки Куган сказал им лично, и как лично он вел себя в их присутствии, при самой настоящей личной встрече.
Другими героями Папаши и Бонмаман были Дуг и Мэри. Признаюсь, все мы относились к Дугласу Фэрбенксу с нездоровым поклонением, конечно благодаря «Робину Гуду» и «Багдадскому вору», а вот Мэри Пикфорд ни меня, ни брата в восторг не приводила. Но для Папаши и Бонмаман Дуг и Мэри были воплощением всех мыслимых человеческих идеалов: в них соединялись совершенства ума и красоты, величия, благородства и достоинства, отваги и любви, веселости и чувствительности, всяческой добродетели и всякого достойного восхищения качества, – искренность, справедливость, честь, целеустремленность, верность, преданность, надежда, гражданственность, мужество, и сверх того – супружеская верность. День за днем эти два божества превозносились за совершенство их взаимной любви, их восхитительную, чистую, незамутненную, почтительную, исполненную взаимного доверия, совершенную супружескую преданность друг другу. Всё, что только простой, добрый, доверчивый оптимизм среднего класса мог изобрести, мои дед и бабушка слагали в великую сентиментальную жертву хваления и повергали к стопам Дуга и Мэри. Развод Дуга и Мэри стал в нашей семье днем траура.
Излюбленным местом поклонения дедушки был Капитолийский театр в Нью-Йорке. Когда построили Рокси-театр, он перенес свою преданность на эту громаду окаменелой карамели, а позднее ни одна святыня не возбуждала в нем большего пиетета, чем Мюзик Холл.
Пожалуй, не стоит углубляться в подробности всех шалостей и неприятностей, которые мы с братом умудрялись вносить в домашнюю жизнь в Дугластоне. Когда приходили гости, которые нам не нравились, мы прятались под столы, или убегали наверх и оттуда швырялись в холл и гостиную чем попало.
Хочу лишь немного сказать о брате, Джоне-Поле. Мои самые живые воспоминания о нем, о нашем детстве, пронизаны горьким сожалением при мысли о моей гордости и жестокосердии и его настоящем смирении и любви.
Полагаю, довольно естественно для старших братьев, по крайней мере, пока они еще дети, ощущать, что общество брата, который младше на пять-шесть лет, подрывает их авторитет. Его считают младенцем, относятся покровительственно и смотрят на него сверху вниз. Поэтому, когда мы с Рассом и Биллом строили шалаши в лесу из фанеры и толя, натасканных от фундаментов маленьких дешевых домиков, что возводились спекулянтами с невероятной скоростью по всему Дугластону, мы строго запрещали Джону-Полу, Томми, младшему брату Расса, и их приятелям даже приближаться к нам. А если они пытались подойти и забраться в шалаш, или хотя бы посмотреть на него, мы прогоняли их камнями.
Когда теперь я вспоминаю этот период своего детства, передо мной встает такой образ: Джон-Пол стоит в поле, в сотне ярдов от зарослей сумаха, где мы построили свою хижину. Это маленький, растерянный пятилетний ребенок, в коротких штанишках и кожаной курточке. Он стоит не шевелясь, опустив руки, смотрит на нас, опасаясь подойти ближе из-за камней, обиженный и огорченный, и в глазах его возмущение и скорбь. И все равно он не уходит. Мы кричим, чтобы он убирался, проваливал, шел домой, швыряем пару камней в его сторону, а он не уходит. Мы говорим, чтобы он играл в другом месте. Он не двигается.
Вот он стоит, не хныча, не плача, но злой и несчастный, расстроенный и ужасно печальный. Ему очень интересно, что мы делаем, как обшиваем дранкой нашу новую хижину. Это огромное желание быть с нами и делать то же, что и мы, не позволяет ему повернуться и уйти. Закон, записанный в его природе, гласит, что он должен быть со своим старшим братом и делать то, что делает он, и он не может понять, почему этот закон любви вдруг так жестоко и несправедливо попирается.
Так было много раз. И в некотором смысле эта ужасная картина есть образ всякого греха: сознательное и бездушное отрицание бескорыстной любви к нам по единственной причине: мы просто не хотим ее. Мы отгораживаемся от любви. Мы отвергаем ее целиком и полностью, не признаем ее просто потому, что нам неприятно, что нас любят. Возможно, бескорыстная любовь напоминает нам, как глубоко мы нуждаемся в ней, как зависим от милости других людей… И мы отталкиваем любовь, чураемся общества любящих нас, ведь в нашем извращенном представлении зависимость кажется чем-то унизительным.
Было время, когда я и мои славные товарищи придумали собрать «банду» в нашем грандиозном шалаше и воображали, что мы достаточно сильны, чтобы противостоять необычайно жестоким ребятам из Польши, которые образовали настоящую банду в Литтл-Нек в миле от нас. Мы приходили на их территорию, вставали на безопасном расстоянии и, глядя в сторону рекламных щитов, за которыми находился их штаб, кричали и вызывали их на драку.
Никто не выходил. Возможно, никого не было дома.
Но потом, одним холодным дождливым днем, мы увидели, как множество больших и маленьких фигур, возрастом лет от десяти до шестнадцати, в большинстве своем очень крепких, в деловито надвинутых на глаза кепках, стекаются разными улицами и собираются на пустыре у нашего дома. И вот они стоят, руки в карманах. Они не шумят, не кричат, не выкрикивают вызовов, они просто стоят и смотрят на наш дом.
Их было человек двадцать, может больше, нас – четверо. Действие достигло кульминации с появлением Фриды, нашей немецкой горничной, которая заявила, что у нее много уборки по дому и мы все должны немедленно выметаться. Не слушая наших взволнованных протестов, она выпроводила нас через черный ход. Мы совершили бросок через несколько задних дворов, очутились в другом квартале, и наконец, благополучно укрылись в доме, где жил Билл, на противоположном конце нашего пустыря. Отсюда мы наблюдали за молчаливой угрожающей группой из Литтл-Нек. Они все еще стояли, и очевидно намеревались простоять так довольно долго.
И тут случилось нечто невероятное.
Парадная дверь нашего дома на том конце пустыря открылась, и в дверях появился мой маленький брат, Джон-Пол. Спокойно и с достоинством он спустился по ступенькам, пересек улицу и ступил на пустырь. Он шел прямо на банду из Литтл-Нек. Они все повернулись к нему, один или двое вынули кулаки из карманов. Джон-Пол просто поглядел на них, повернув голову в одну сторону, потом в другую, и продолжал идти сквозь них, и никто не тронул его даже пальцем.
Так он и пришел в дом, где мы прятались. На этот раз мы его не прогнали.
VI
Дедушка с бабушкой были похожи на большинство американцев. Они были протестанты, но в точности понять, какого толка, было трудно. Во всяком случае я, их внук, этого не понимал. Он вкладывали купюры в маленькие конвертики, которые им приходили из Сионской церкви, но близко не подходили к ней самой. Они жертвовали на Армию Спасения, но также и в другие организации, и по тому, кому именно они помогали и кого поддерживали, тоже нельзя было определить, кем они являются. Да, моего дядюшку в детстве посылали в учебный хор при соборе Св. Иоанна Богослова[37], возвышавшемся на утесе над Гарлемом, который тогда представлял собой вполне мирный буржуазный район. Они и Джона-Пола туда отослали, когда пришел срок. Помнится, были даже разговоры о том, чтобы и меня туда отправить. Однако это не делало их приверженцами епископальной церкви. Они сочувствовали не религии, а самой школе и ее атмосфере. Бонмаман порой читала маленькие черные книжечки Мэри Бейкер Эдди[38], и подозреваю, что ближе она к религии не подошла.
В целом отношение к религии в доме сводилось к несколько невнятному допущению, что все конфессии достойны одобрения по чисто естественным или социальным причинам. В любом отдаленном пригороде большого города вы время от времени встретите какую-нибудь церковь. Это неизбежная часть пейзажа, как средняя школа, МХА[39] или похожая на спину кита крыша и бочкообразное здание кинотеатра.
Только евреи и католики составляли исключение в этой религиозной всеядности. Но кто пожелал бы быть евреем? Это, в конце концов, скорее вопрос расы, чем религии. Евреи уж евреи и есть, и тут особо ничего не поделаешь. Но что касается католиков, то Папаша в малейшем намеке на католическую веру видел какую-нибудь мрачную злонамеренность.
Дело было в том, что он принадлежал к некой масонской организации, называвшейся, как ни странно, – Рыцари-Храмовники. Где они откопали это название, не знаю: ведь изначально Рыцари Храма представляли собой военный орден Католической Церкви, близко связанный с цистерцианцами, из которых был образован орден траппистов.
Рыцари-Храмовники, как полагается, имели шпагу. Папаша свою хранил сначала в шкафу в своей каморке, потом – в гардеробе при входе, вместе с тростями, зонтиками и полицейской дубинкой, на которую он весьма рассчитывал в случае появления взломщика.
Полагаю, что из собраний Рыцарей-Храмовников, где Папаша бывал все реже и реже, он и вынес представление о том, как погибельна Католическая Церковь. Впрочем, вероятно, он слышал это с детства. Это слышат все протестантские дети, это часть их религиозного воспитания.
Если и была еще причина, по которой он чурался Римской Церкви, – то это тот странный факт, что большинство политиков, пойманных на взятках во время выборов в Нью-Йорке, были католиками. Для Папаши слова «католический» и «Тэммани»[40] значили примерно одно и то же. И поскольку все это вполне соответствовало тому, что говорят каждому протестантскому ребенку о двуличии и лицемерии католиков, католицизм ассоциировался в его сознании со всем бесчестным, мошенническим и аморальным.
Таковы были представления, которые, по-видимому, оставались с ним до конца его дней. Но они перестали проявляться столь явно, когда в нашем доме появилась католичка, которая поселилась у нас в качестве компаньонки Бонмаман, а также всеобщей няни и домохозяйки. Она оказалась не временным приложением к домашнему хозяйству. Я думаю, мы все очень полюбили Элизу с самого начала, а Бонмаман так привязалась к ней, что та осталась, и со временем стала членом семьи, выйдя замуж за моего дядю. С ее появлением Папаша более ни разу не позволил себе разразиться ни одной из любимых антиримских тирад, разве только какое-нибудь случайное едкое словечко невзначай сорвется с губ.
Одна из немногих вещей, которые я впитал от Папаши и которая действительно укоренилась в моем сознании, стала частью моего мировосприятия, – его ненависть и подозрительность в отношении католиков. В этом не было ничего осмысленного, просто глубокое, почти безотчетное отвращение к непонятному и порочному явлению, которое я называл католицизмом, и которое жило в темных уголках моего сознания, подле других страшилок, вроде смерти, и тому подобного. Я не знал, что они в точности значат. Но они вызывали какое-то холодное и неприятное чувство.
Дьявол не дурак. Он может заставить людей думать о небесах так, как им следовало бы думать об аде. Он может заставить бояться благодати так, как они и греха не боятся. И он делает это не с помощью света, но с помощью сумрака, не явью, но тенями, не ясностью и смыслом, но наваждением и плодами психоза. Ведь разум человеческий так слаб, что легкого холодка по спине достаточно, чтобы отвратить его от поиска истины.
Мне было всего девять, и я все решительнее отвращался от всякой религии. К этому времени я раз или два я сходил в воскресную школу и нашел ее такой скучной, что с тех пор вместо нее отправлялся играть в лес. Не думаю, чтобы семейство мое сильно горевало.
Все это время отец был за границей. Сначала он уехал на юг Франции, в Руссильон, где я родился. Он жил в Баньюле, затем в Койюре, писал пейзажи на Средиземноморском побережье и в красных горах, на всем протяжении до Пор-Вандра[41] и границ Каталонии. Потом, спустя немного времени, он и его спутники перебрались в Африку и углубились в Алжир, к самой пустыне, и здесь он тоже писал.
Из Африки приходили письма. Он прислал мне посылку, в которой был миниатюрный бурнус, который я мог носить, и чучело какой-то ящерицы. Я тогда собирал маленький музей естественной истории изо всякого хлама, что можно было найти на Лонг-Айленде, вроде наконечников стрел и занятных камешков.
В эти годы отец написал свои лучшие картины. Но потом что-то случилось, и мы получили письмо от одного из его друзей-, извещавшее, что он серьезно болен. В действительности он умирал.
Когда Бонмаман сообщила мне эту новость, я был достаточно взрослым, чтобы понимать, что это значит. Я был потрясен. Горе и страх затопили меня. Неужели я никогда больше не увижу отца? Этого не может быть. Не помню, молился ли я, но думаю, что на этот раз да. Хотя, конечно, у меня было очень мало того, что называется верой. Если я и молился за отца, то это был один из тех слепых, почти непроизвольных порывов, которые случаются у любого человека, даже атеиста, в трудные минуты жизни. Эти порывы не столько доказывают существование Бога, сколько свидетельствуют, что потребность служить Ему и исповедовать Его глубоко укоренена в нашей зависимой природе и просто неотделима от нашего существа.
Кажется, несколько дней отец пролежал в бреду. Никто не знал, что с ним. Ждали, что он умрет с минуты на минуту. Но он не умер.
Наконец он миновал кризис этой странной болезни, пришел в сознание, стал поправляться и набираться сил. Став на ноги, он смог закончить еще несколько картин, собрал вещи и отправился в Лондон, где прошла самая успешная его выставка, в Лестер Гэллериз[42], в начале 1925 года.
Отец вернулся в Нью-Йорк в начале лета этого года как триумфатор. Он становился успешным художником. Его уже давно избрали в одно из довольно бессмысленных британских обществ, так что теперь он мог делать приписку F. R. D. A. после своего имени, но никогда не делал, и думаю, что он уже был внесен в Who’s Who, хотя все это глубоко презирал.
Зато теперь, а это гораздо более важно для художника, он снискал внимание и уважение такого влиятельного и почтенного критика, как Роджер Фрай[43], и восхищение людей, которые не только понимают, что такое хорошая живопись, но и имеют средства, чтобы ее приобрести.
Когда он сошел на землю в Нью-Йорке, это был совершенно иной человек – от того, который возил меня на Бермуды двумя годами раньше, он отличался гораздо больше, чем я осознавал. Но тогда я лишь заметил, что он отпустил бороду, против которой я запротестовал, будучи исполнен провинциального снобизма, столь свойственного детям и подросткам.
– Ты сейчас ее сбреешь, или после? – спросил я, когда мы добрались до дома в Дугластоне.
– Я вовсе не собираюсь ее сбривать, – сказал мой отец.
– С ума сошел, – сказал я, но отец не смутился. Он ее сбрил, пару лет спустя, когда я уже привык к его бороде.
Однако у него оставалось в запасе еще кое-что, что расстроило мой безмятежный покой гораздо сильнее, чем борода. К тому времени я получил непривычный опыт почти двухгодичного пребывания на одном месте, более или менее освоился в Дугластоне, мне нравилось там жить, нравились мои друзья, нравилось купаться в бухте. Мне подарили маленькую камеру, которой я фотографировал, а дядя отдавал проявлять пленку в аптеку «Пенсильвания». Я был обладателем бейсбольной биты со надписью «Spalding»[44], выжженной крупными буквами на рукоятке. Подумывал, не стать ли бойскаутом, – я видел потрясающее состязание бойскаутов во Флашинг-Армори [45], как раз по соседству с молельным домом квакеров, тем самым, где когда-то краем глаза видел Дэна Берда с его бородой.
Отец сказал:
– Мы едем во Францию.
– Францию! – повторил я удивленно. «Разве можно хотеть ехать во Францию?» – думал я, что, конечно, характеризовало меня как довольно глупого и невежественного ребенка. Но отец убедил меня, что имел в виду именно то, что сказал. И когда все мои возражения оказались бесполезны, я расплакался-. Отец мне даже слегка сочувствовал. Он мягко объяснил, что, когда я окажусь во Франции, мне там понравится-, рассказал, чем это хорош этот план. И наконец, он согласился, что мы отправимся туда не прямо сейчас.
Этим компромиссом я на время удовлетворился, надеясь, что о путешествии забудут. Но к счастью, о нем не забыли. Двадцать пятого августа того же года игра в «дом пленника» началась снова, и мы отплыли к берегам Франции. Я не знал тогда, да и не интересовался, но это был день св. Людовика Французского.
Глава 2
Богоматерь Музеев
I
Как могло случиться, что когда все отребье мира собралось на западе Европы, когда готы, франки, норманны, лангобарды слились с прогнившими останками старого Рима и образовали пеструю смесь разнородных племен, каждое из которых было замечательно своей жестокостью, ненавистью, тупым упрямством, лукавством, похотью и грубостью, – как случилось, что из всего этого должны были возникнуть – григорианское пение, монастыри и соборы, поэмы Пруденция, «Комментарии к Писанию» и «История» Беды, «Моралии» Григория Великого, «Град Божий» св. Августина и его «Троица», писания св. Ансельма, толкования св. Бернарда на Песнь Песней, поэзия Кэдмона и Кюневульфа, Ленгленда и Данте, «Сумма» св. Фомы и «Оксфордское сочинение» Дунса Скота?
Как получилось, что даже сейчас пара обыкновенных французских каменщиков, а то и плотник с подмастерьем способны возвести голубятню или амбар, в котором больше архитектурного совершенства, чем в нагромождении эклектичных нелепостей ценою в сотни тысяч долларов, что вырастают на кампусах американских университетов?
Когда в 1925 году я поехал во Францию, я возвращался не только в страну, где родился, но и к истокам интеллектуальной и духовной жизни мира, к которому принадлежал; к источникам, если хотите, вод природных, но очищенных и освященных благодатью такой силы, что даже развращенность и упадок современного французского общества не могли вполне отравить их или вернуть к первоначальному варварству.
Это все еще была та Франция, что взрастила прекраснейшие цветы изящества и тонкости, рассудка, остроумия и вдумчивости, соразмерности и вкуса. Даже ее сельская местность и пейзажи, – пологие холмы, пышные луга и яблоневые сады Нормандии, угловатый, скупой, четкий силуэт Прованских гор, или вольно раскинувшиеся красные виноградники Лангедока, – словно созданы для того, чтобы служить совершенным фоном для прекрасных соборов, привлекательных городов, строгих монастырей и великих университетов.
Но поразительнее всего то, как гармонично сочетаются все совершенства Франции. Она владеет всяким искусством, – от кулинарии до логики и богословия, от строительства мостов до созерцания, от виноделия до скульптуры, от скотоводства до молитвы, – и владеет ими более совершенно, всеми вместе и каждым в отдельности, чем какая-либо другая нация.
Почему песни французских детей нежнее, речь разумнее и серьезнее, глаза спокойнее и глубже, чем глаза других детей? Кто объяснит все это?
Франция, я счастлив, что родился на твоей земле, и что Бог в нужный час возвратил меня к тебе.
Всего этого я не знал о Франции дождливым сентябрьским вечером, когда мы ступили на берег в Кале, прибыв из Англии, через которую благополучно проехали.
Я не разделял и не понимал того радостного возбуждения, с которым отец сошел с корабля и окунулся в гомон французского вокзала, наполненного выкриками носильщиков и паром из труб французских поездов.
Я устал и заснул задолго до того, как мы добрались до Парижа. А когда проснулся, оставалось еще достаточно времени, чтобы увидеть сумятицу фонарей на мокрых улицах, темный изгиб Сены, которую мы миновали по одному из бесчисленных мостов, и дальние огни Эйфелевой башни, складывающиеся в буквы C–I-T-R-O-Ë-N…
Слова Монпарнас, Рю-де-Сен-Пер, Гар-д’Орлеан, лишенные всякого содержания, заполняли мое сознание и не сообщали ничего определенного о высоких серых домах, широких тенистых навесах кафе, деревьях, людях, церквах, пролетающих такси и шумных зелено-белых автобусах.
Тогда, в возрасте десяти лет, я не успел что-либо понять в этом городе, но уже знал, что скоро полюблю Францию. И вот мы снова в поезде.
В этот день в экспрессе, проезжая на юг, в Midi [46], я открыл для себя Францию. Я обнаружил, что эта земля и есть та, которой я принадлежу, если вообще принадлежу какой-либо земле, не по документам, но по рождению.
Мы пронеслись над бурой Луарой по длинному мосту в Орлеане, и с той поры я был дома, хотя никогда не видел этих мест прежде, и никогда не увижу вновь. А еще именно здесь отец рассказал мне о Жанне Д’Арк, и кажется, образ ее, как бы на краю сознания, был со мною весь день. Возможно, мысль о ней, как некая неявная молитва, в которой были и поклонение, и любовь, позволила мне снискать ее заступничество на небесах. Благодаря ей и через нее я смог ощутить своего рода благодать от таинств ее земли, и – пусть неосознанно – видеть Бога в каждом тополе у реки, в домишках с низкими крышами, что сгрудились вокруг деревенских церквей, в лесах и фермах, в речках, исчерченных мостами. Мы проехали местечко с названием Шатодён. Затем пейзаж стал скалистым, мы прибыли в Лимож, где нас встретили лабиринты тоннелей, обрывавшихся взрывами света, высокие мосты и панорама города, поднимавшегося по крутому склону к подножию кафедрального собора с простой колокольней башней. Мы все дальше пробирались вглубь Аквитании: к старым провинциям Керси и Руэрг. Здесь, хотя мы еще не знали точно места нашего назначения, мне предстояло жить и пить из источников Средневековья.
Вечером мы подъехали к станции, называвшейся Брив. Брив-ла-Гайард. Сумерки сгущались. Местность была холмистая, со множеством деревьев, но каменистая, так что догадываешься, как голы и дики вершины холмов. В долинах высились замки. Было слишком темно, чтобы видеть Каор.
Потом – Монтобан.
Что за мертвый город! Какая тьма и тишина, особенно после поезда. Мы вышли со станции на пустую пыльную площадь в пятнах теней и тусклого света. Лошадь процокала по пустой улице, увозя в кэбе людей, сошедших с поезда в этот загадочный город. Мы подняли наши сумки и перешли через площадь к гостинице. Это было заурядное, невыразительное, серое маленькое заведение, в окне первого этажа горела тусклая лампа, освещая небольшое кафе с несколькими железными столами и засиженными мухами календарями на стенах. На рахитичной конторке, за которой женщина с кислой миной, вся в черном, возвышалась над четырьмя посетителями, громоздились большие тома Боттена[47].
И все же это было не унылое, а скорее приятное впечатление. Все казалось знакомым, хотя в памяти моей не сохранилось ничего подобного, и я почувствовал себя дома. В номере отец распахнул деревянные ставни, глянул в тихую, беззвездную ночь, и сказал:
– Чувствуешь в воздухе запах древесного дыма? Это запах Midi.
II
Проснувшись наутро и выглянув из окна, мы увидели в ярком, пронизанном солнцем воздухе низкие черепичные крыши, и поняли, что оказались в совершенно иных декорациях, нежели те последние пейзажи, что открывались нам вчера из окна поезда в свете угасающего дня.
Мы у границ Лангедока. Все вокруг красное. Город построен из кирпича, он стоит на низком обрывистом берегу, над водоворотами реки Тарн цвета багровой глины. Мы были почти в Испании. Но он был мертв, этот город.
Почему мы здесь очутились? Едва ли только потому, что отец хотел снова писать пейзажи Южной Франции. В тот год он вернулся к нам не только с бородой. Болезнь, или что-то иное, убедила его, что он не должен доверять воспитание и образование своих сыновей другим людям, что он обязан устроить для нас дом, где он мог бы заниматься своей работой, а мы – жить с ним, взрослея под его наблюдением. И, что еще важнее, он явственно осознал определенную религиозную ответственность и за нас, и за себя самого.
Я уверен, что он всегда оставался верующим, но теперь – чего я совершенно не помню из своих детских лет – он просил меня молиться. Молиться, чтобы Бог помог нам, помог ему писать, помог сделать успешную выставку, найти место, где жить.
Когда мы, наконец, устроимся, – через год, или может быть, два, он и Джона-Пола привезет во Францию. И тогда у нас появится дом. А пока, конечно, все неопределенно. Причиной же, по которой мы приехали именно в Монтобан, было то, что ему посоветовали здесь очень хорошую школу.
Школа называлась Институт Жана Кальвина, а рекомендовал ее некий выдающийся французский протестантский деятель, с которым отец был знаком.
Я помню, как мы пришли в эту школу. Большое, чистое белое здание над рекой. Солнечные крытые галереи, полные зелени, и гулкие пустые комнаты – летние каникулы еще не кончились. Однако отцу что-то не понравилось, и меня, слава Богу, так туда и не отправили. Собственно говоря, это была не столько школа, сколько этакая протестантская резиденция, где молодежь (преимущественно из весьма состоятельных семей) получала пансион, религиозное образование и руководство, а заодно посещала занятия в местном Лицее.
Именно тогда я начал смутно подозревать, что хотя отец и хотел дать мне религиозное воспитание, он был совсем не в восторге от французского протестантизма. Действительно, позднее я узнал от некоторых из его друзей, что в это время он склонялся к тому, чтобы стать католиком. Похоже, его очень привлекала Церковь, но ради нас он не поддавался ее притягательности. Думаю, что он считал необходимым в первую очередь использовать обычные, подручные средства, а именно – приучить меня и Джона-Пола к той религии, которая была в непосредственной близости к нам, тогда как, стань он католиком, это поссорило бы нас с остальным семейством, и мы могли остаться без какой бы то ни было религии.
Он, вероятно, чувствовал бы себя уверенней, будь среди его друзей католики его интеллектуального уровня – кто-то, кто мог бы разумно говорить с ним о вере. Но, насколько я знаю, их не было. Он глубоко уважал тех добрых католиков, которые нам встречались, но они не могли выразить свои мысли о Церкви так, чтобы он мог их понять, и кроме того – большинство из них были слишком застенчивы.
Да и в остальном после первого же дня стало ясно, что Монтобан – не место для нас. Здесь решительно нечего было писать. Это был довольно хороший городок, но очень скучный. Заинтересовал отца только Музей Энгра, в котором собраны скрупулезно выполненные рисунки этого художника. Энгр родился в Монтобане, но коллекция его холодных, тщательно выполненных эскизов вряд ли была способна вдохновлять кого-либо более пятнадцати минут. Другой достопримечательностью города был кошмарный бронзовый монумент работы Бурделя неподалеку от музея. Казалось, он старался изобразить группу пещерных людей, воюющих друг с другом в массе расплавленного шоколада[48].
Однако, когда мы в поисках подходящего для жизни места обратились в туристско-информационную службу «Syndicat d’Initiative», нам показали фотографии симпатичных маленьких городков, расположенных неподалеку к северо-востоку от Монтобана, в долине реки, называвшейся Аверон.
В полдень мы сели в чудной старинный поезд, следовавший из Монтобана в окрестности, и ощутили себя волхвами, оставившими позади Ирода и Иерусалим и вновь обратившими взоры к своей звезде.
У локомотива были большие колеса, низкий, приземистый бойлер и непропорционально высокая труба. Он словно сбежал из музея, но был крепок и работу свою исполнял исправно. И со своими четырьмя вагончиками быстро доставил нас в земли определенно священные.
Последним городком, в котором к церкви, на манер всех церквей Лангедока, примыкала кирпичная колокольня, был Монтрику. Затем поезд въехал в долину реки Аверон. Теперь мы были почти в Руэрге. И тогда мы начали что-то видеть.
Я не сознавал, в каких местах мы оказались, пока поезд не обогнул широкую излучину мелководной реки и не остановился под сенью невысоких залитых солнцем деревьев, протянувшихся вдоль платформы крошечной станции. Мы выглянули в окно и увидели, что только что миновали подножье отвесного утеса высотой две сотни футов, с замком тринадцатого века на вершине. Это был Брюникель. Повсюду нас окружали обрывистые холмы, густо поросшие деревьями, – небольшими узловатыми дубами, цепляющимися за скалы. Вдоль реки стройные тополя рябили в свете клонившегося к закату дня, и зеленая вода плясала среди камней. Люди, сходившие с поезда и садившиеся в него, были в основном крестьяне в свободных черных блузах, а на дорогах мы видели мужчин, идущих рядом с волами, запряженными в двухколесные повозки: они погоняли свою невозмутимую скотину длинными палками. Отец сказал мне, что все эти люди говорят не по-французски, а на старинном местном наречии – langue d’oc [49].
Следующей остановкой был Пен. Здесь при слиянии двух долин голый каменистый склон отвесно вздымался над рекой, возносясь упруго и резко, словно крыло на взмахе. Наверху были руины еще одного замка. Чуть дальше и ниже шли разбросанные вдоль горного хребта деревенские домики, кое-где среди них вырастали небольшие квадратные колокольни церквей с открытыми железными площадками наверху и колоколами.
Долина становилась все теснее и глубже, поезд следовал по узкой одноколейке меж рекой и скалами. Иногда берег слегка расширялся, давая место небольшим крестьянским покосам. Изредка пустынная пыльная дорога или тропа для скота пересекали наш путь, а потом мы проезжали небольшой домик и воротца из жердей, и один из этих ужасных французских колоколов пугал нас внезапным и резким звуком, ворвавшимся в окна вагончика.
Вот долина ненадолго расширилась, чтобы вместить жмущуюся к подножию горы на противоположной стороне реки деревушку Казальс, и снова мы в тесном ущелье. Если подойти к окну и взглянуть вверх, то увидишь серовато-желтые утесы, громоздившиеся так, что почти закрывали небо. Теперь высоко в скалах можно было различить пещеры. Позднее я забирался сюда и в некоторых из них побывал. Миновав множество мостиков и тоннелей, взрывы света и зелени, за которыми следуют глубокие тени, мы, наконец, прибыли в пункт назначения.
Это был старинный, даже древний городок. История его уходит вглубь веков к римским временам – временам святого мученика, его покровителя. Антоний принес христианство в римскую колонию, расположенную в этой долине, а позднее пострадал в другом месте, в Памье[50], внизу, у подножия Пиренеев, недалеко от Прада, где я родился.
Даже тогда, в 1925 году, Сент-Антонен[51] сохранял еще форму обнесенного стенами древнего bourg[52]: только сами стены исчезли, и с трех сторон их заменили широкие окружные улицы, вдоль которых протянулись ряды деревьев. Они были достаточно просторны, чтобы гордо именоваться бульварами, хотя здесь едва ли можно было встретить что-либо кроме повозок, запряженных волами, и кур. Сам городок представлял собой лабиринт узких улочек, пролегающих меж домами тринадцатого века, большей частью превращенными в руины. Это был средневековый город, хотя улицы уже не кишели людьми, дома и лавки больше не были заняты процветающими купцами и ремесленниками, и ничего не осталось от пестроты, пышности и многоголосого гама Средних веков. И все-таки, пройтись по этим улочкам – значило окунуться в Средневековье: с тех пор здесь ничто не тронуто рукой человека: только временем и распадом. Судя по всему, самой успешной гильдией города когда-то были кожевники, старинные сыромятни и сейчас помещались здесь вдоль узкого зловонного стока, в который собирается протекающий через полгородка ручей. Но когда-то эти места бурлили всеми видами деятельности, доступными свободной и процветающей коммуне.
И как я уже сказал, центром всего этого была церковь.
К сожалению, именно влиятельность главной святыни Сент-Антонена и навлекла на нее гнев и насилие во времена религиозных войн. Церковь, что теперь стояла на руинах прежней, – была совершенно новой, и мы не могли ни увидеть, ни угадать когда-то заложенную в ее конструкции и декоре мысль горожан, ее строителей. Однако и сейчас церковь доминировала над городом, каждый полдень и каждый вечер вознося над бурыми, крытыми древней черепицей крышами перезвон Ангелуса[53] и напоминая людям, что Матерь Божия хранит их.
Как и прежде – хотя тогда я об этом не думал, ибо ничего не знал о мессе – каждое утро под этими высокими сводами, на алтаре, над мощами мученика совершалось великое, тайное и явное приношение – столь таинственное, что тварный ум никогда не сможет вполне охватить его, и столь явное, что сама очевидность его слепит нас ярчайшим своим светом: бескровная Жертва Божия под видами хлеба и вина.
Этот изумительный древний городок был устроен так, что все в нем – дома, улицы, сама природа с окружающими его холмами, скалами и деревьями – возвращало мое внимание к самому важному – церкви и тому, что она в себе таила. Куда бы я ни пошел, все, что меня окружало, заставляло постоянно сознавать ее присутствие. Каждая улочка так или иначе вела к центру, к церкви. С какого бы холма я ни глядел на город, взгляд мой притягивало длинное серое здание с высоким шпилем.
Церковь была вписана в ландшафт так, что становилась ключом к его пониманию. Она придавала особую значимость всему, что вмещал глаз – горам, лесам, белым скалам Роше д’Англар и красным бастионам Рок Руж, извилистой реке Боне и ее зеленой долине, городу и мосту, и даже новеньким виллам современных буржуа, которыми пестрели поля и сады за пределами исчезнувших городских стен: и эта приданная значительность была сверхъестественной.
Весь пейзаж, объединенный церковью с устремленным в небо шпилем, казалось, говорил: вот смысл всех творений: мы созданы для того, чтобы люди с нашей помощью могли восходить к Богу и возвещать славу Его. Мы сотворены совершенными каждый сообразно своей природе и соединены столь гармонично, что человеческим разуму и любви осталось привнести последнее – этот Богом данный ключ к смыслу целого.
Как много значит жить в месте, устроенном так, что ты принужден, хотя бы подсознательно, погружаться в созерцание! Где твой взгляд снова и снова возвращается к Дому, скрывающему в себе Таинственного Христа!
А ведь я даже не знал, кто такой Христос, что Он есть Бог. Не имел ни малейшего представления о том, что существуют Святые Дары. Я думал, что церковь – это место, где люди собираются, чтобы попеть гимны. Но теперь говорю вам, кто сейчас таковы, каким прежде был я, неверующим, – что именно Таинство, и только оно, Христос, живущий посреди нас, приносимый нами, за нас и вместе с нами в чистой и предвечной Жертве, – Он один удерживает наш мир в единстве и не дает всем нам кануть стремительно и безвозвратно в бездну вечной гибели и разрушения. Я утверждаю, что есть сила, сила света и истины, которая исходит от Таинств и проникает в сердца даже тех, кто никогда не слышал о Нем и, казалось бы, неспособен верить.
.
III
Вскоре мы сняли квартиру в трехэтажном доме на окраине города, подле Place de la Condamine, где находился скотный рынок. Но Отец хотел построить свой дом, и потому спустя немного времени приобрел участок земли поблизости, на нижних склонах холма, замыкающего с востока долину Боне. На вершине этого холма стояла маленькая часовня, теперь заброшенная. Называлась она La Calvaire, Голгофа. И действительно, позади нашего участка через виноградники вилась скалистая тропа, на которой некогда располагались кальварии[54], четырнадцать остановок между городом и вершиной холма, знаменующих этапы Крестного Пути. Сама же благочестивая традиция крестного хода к часовне умерла еще в 19 веке – просто не осталось добрых католиков, которые могли бы ее поддерживать.
Когда Отец задумал постройку собственного дома, мы стали много путешествовать по окрестностям, присматривая место и заодно навещая деревушки в поисках живописных видов для папиных пейзажей.