Читать онлайн Елена Феррари бесплатно
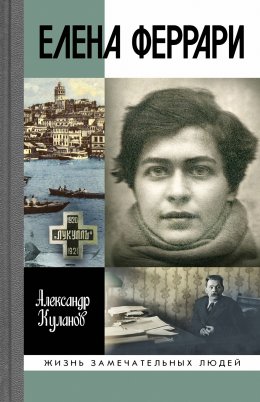
Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее разведчиков. Никто так охотно не отвлекается на второстепенные задачи. Никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения и за ней спрятаться. Никто не умеет так убедительно делать вид, будто смотрит свысока на эту публику, которой ничего другого не остается, как платить по самым высоким расценкам за разведданные второго сорта, а их прелесть не в том, что они объективно ценные, но в том, что процесс их получения окутан готической таинственностью.
Джон Ле Карре «Голубиный туннель: Истории из моей жизни»
Предисловие
Я взялся за эту биографию сразу после того, как принял решение биографий больше не писать. Из этого понятно, что мое обращение к судьбе Елены Феррари стало случайным и «случайность», возможно, главное слово в этой книге. Несколько раз во время работы люди в погонах с нажимом и пафосом говорили мне: «Вы верите в случайности? Я – нет». После чего наотрез отказывались объяснить, как иначе можно трактовать бесконечные совпадения, из которых оказалась не связана – нет – выкована жизнь женщины, взявшей себе звонкий металлический псевдоним: Елена Феррари. Попытка реконструкции ее биографии для меня самого оказалась тем более неожиданной, что до сих пор все мои работы так или иначе были связаны с одной темой – с Японией. Ничего не поделаешь: я занимался изучением этой страны много лет, продолжаю делать это и теперь. Новая героиня не была с Японией связана никак (или почти никак, но это выяснилось позднее, по ходу написания книги). Так что же это оказались за обстоятельства, заставившие меня снова включить компьютер или, образно говоря, взяться за перо?
Летом 2019 года я прочитал книгу Алисы Аркадьевны Ганиевой «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферова века». История возлюбленной Маяковского сразу же напомнила мне биографию другой женщины из той же эпохи и тоже расположившейся в опасной близости от Люциферова трона – Агнессы Мироновой. Судьбу жены высокопоставленного чекиста изложила несколько лет назад Мира Мстиславовна Яковенко, а ее дочь Ольга Игоревна подарила мне экземпляр первого издания книги. По большому счету оба повествования – и «Агнесса», и «Ее Лиличество…» об одном и том же – о женщинах, попавших в круговорот очередной кошмарной эпохи и всеми силами пытающихся выжить за счет доступных им способов и приемов: красоты (пока есть), очарования (держится дольше), врожденного умения очаровывать мужчин (совершенствуется с годами). Обе добились успеха: они выжили. Выжили, пережив всех своих защитников и вспоминая о них десятилетия спустя. Так совпало (в первый раз!), что пока я читал о Лиле Брик и перечитывал мемуары Агнессы Мироновой, на глаза мне попалось подаренное другом издание, посвященное столетию военной разведки – знаменитого ГРУ: дорого выглядящий фолиант со множеством фотографий и минимумом текста. Причем, поскольку с иллюстрациями в этой системе всегда проблемы – что показывать, если все сплошь секретно? – то портреты одних и тех же разведчиков оказались воспроизведены в ней по нескольку раз. Как будто для того, чтобы приковать к ним чье-то внимание. Получилось.
С одной страницы за другой на меня смотрела женщина с иконописным ликом, огромными глазами Мадонны и красивым именем: Елена Феррари. Тут же разъяснялось, что это псевдоним – то ли оперативный, то ли литературный. Настоящее же ее имя Ольга, и снова «то ли»: Ревзина, Голубева, Голубовская, Голубковская. Заинтригованный, я немедленно отправился в интернет и обнаружил сразу две статьи, посвященные многоликой «мадонне», явно служившие первоисточниками для всех остальных опусов о ней. Израильский литературовед Лазарь Соломонович Флейшман отнесся к Феррари так внимательно, что, «вытащив» из темы все, что в его положении и в данном формате было возможно, практически составил конспект для будущих исследователей ее биографии и творчества. В его изложении Елена Феррари предстала передо мной героиней, в революцию и разведку попавшей случайно. На самом деле она мечтала стать знаменитой поэтессой, но не вышло. Хотела, но так и не сумела воспользоваться покровительством своих маститых знакомых – Максима Горького и Виктора Шкловского.
Историк военной разведки Владимир Иванович Лота, используя материалы Флейшмана и рассекреченные документы своего ведомства, писал о Феррари, наоборот, в первую очередь как о разведчице и исключительно в превосходной степени, с пиететом и нескрываемым восхищением. Подход для корпоративных отношений естественный. Вот только что́ стояло за таким отношением с точки зрения фактологии, понять было сложно. К сожалению, мне уже не раз приходилось читать не только книги, но и рассекреченные документы по истории разведки, из которых явствовало: мало где образ и реальность расходятся настолько сильно, как в этой, крайне интимной, сфере политической жизни общества. К тому же из статьи Лоты можно было сделать вывод, что благодаря неординарным профессиональным качествам Феррари к этой женщине с особым уважением относился глава Разведывательного управления Красной армии Семен Петрович Урицкий, и это показалось мне важным совпадением.
«Секреты выживания в Люциферов век Агнессы Мироновой, Лили Брик и Елены Феррари» – примерно с таким настроением подходил я к идее новой книги, и сам псевдоним главной героини подталкивал автора к тому, чтобы, не особенно напрягаясь, изготовить совсем небольшую, по возможности остросюжетную и не изнуряющую читателя биографию красивой женщины, шпионки и поэтессы, жившей в не самый подходящий для раскрытия ее талантов момент истории. Сам собой возник вполне «продаваемый» заголовок: «В погоне за Красной Феррари», что окончательно укрепило меня в мысли: надо писать.
Я уже отправился по архивам, уже начал собирать материалы, когда издательство «Молодая гвардия», где я случайно рассказал об этой истории, тут же предложило отказаться от длинных заголовков и писать сразу для серии «Жизнь замечательных людей». Автор встал в тупик.
«ЖЗЛ» с советских времен служила для меня образцом не столько добросовестного подхода авторов к изучению и воспроизведению биографии своих героев (в детстве я об этом не задумывался, а сейчас понимаю, что мир устроен сложнее, чем казалось тогда), сколько примером тщательного выбора самих героев. Павленковский[1] вариант серии, основанный в 1890 году и оборванный в 1924-м, имел преимущество: в распоряжении первых авторов был обширный список великих людей прошлого – от Колумба до Некрасова и далее. Оспаривать справедливость выбора подобных личностей вряд ли приходило кому-то в голову, а простор для отбора выглядел поистине неохватным. После воскрешения усилиями Максима Горького серии в 1933 году корабль «ЖЗЛ» получил неизбежный идеологический крен, но основной павленковский курс не сменил. Главная проблема заключалась теперь в уровне новых авторов, и сам Горький в апреле 1933 года сетовал и негодовал в письме своему старому приятелю, бывшему сормовскому социал-демократу, ставшему литературоведом, Василию Алексеевичу Десницкому: «Не помню – предлагал ли я тебе помочь делу издания серии “Жизнь замечательных людей”? Возьмись, В. А., за это дело! Я забраковал уже с десяток рукописей, – отчаянно плохо и малограмотно пишутся биографии! Старый чорт, возьмись!» В конце концов Горький добился своего. Пусть не стараниями Десницкого, но со временем в серию придут роскошные авторы, такие как Михаил Булгаков, например, но… герои – кто они теперь? Кем должны быть эти самые «замечательные люди»? Безупречными рыцарями, носящими, как латы, идеалы, близкие каждому поколению читателей? Учеными? Святыми? Персонажами легенд? Сам Горький не оставил нам по этому поводу точных рекомендаций. И все же я думаю, он сильно удивился бы, если бы узнал, что новым героем серии «ЖЗЛ» стала его старая знакомая Елена Константиновна Феррари.
В рассуждениях о том, кем могут быть эти самые «замечательные люди», нередко присутствует цитата из поэмы Маяковского «Хорошо!». Мол, это должны быть такие герои, чтобы можно было рекомендовать их «юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого…». Но у этих строчек есть финал – всем финалам финал: «…скажу, не задумываясь – “Делай ее с товарища Дзержинского”». Да, это было такое время, такая специфическая эпоха, и Максим Горький, вероятно, ничего не имел против биографии «железного Феликса» в «ЖЗЛ». Но можно ли сказать молодому читателю «делай свою жизнь с товарища Феррари»? Да и сама по себе тема разведки, тайных служб, чекистов – модная и актуальная во все времена, достойна ли она становиться фоном для биографий героев почетной серии в принципе? Наверное, ответ у каждого читателя, у каждого автора найдется свой, и далеко не все скажут «да, такое может быть», но… Несколько лет назад литературный критик Олег Демидов в статье, посвященной чекисту-террористу Якову Григорьевичу Блюмкину, обмолвился: «С таким наплывом биографий шпионов остается ожидать, наверное, появления жизнеописания Елены Феррари – авантюристки, советской разведчицы и поэтессы… Пора бы». Пора пришла.
«ЖЗЛ» давно уже – «Жизнь заметных – примечательных – людей», а дальше уж кому кто больше нравится: кому «Сталин», а кому «Иисус Христос». Ничего не поделаешь, государственных издательств больше нет, а рынок сам диктует, что ему надо, и читатели теперь решают, что́ им покупать. Главным критерием попадания в серию стал масштаб личности кандидата – без оценки, без колористики. Но удовлетворяет ли этому условию Елена Феррари? Насколько она, если не замечательный, то хотя бы заметный человек?
Ответ на этот вопрос кажется простым. Версия биографии этой женщины, изложенная Владимиром Лотой с опорой на ведомственные документы и литературоведческое исследование Лазаря Флейшмана, стала не только канонической, но и чрезвычайно популярной. Еще бы – она основана на двух важных моментах, якобы случившихся в жизни Елены Константиновны: блестящей диверсии, приведшей к гибели врангелевской яхты «Лукулл» в 1921 году, и дружбе с Максимом Горьким. Интернет полон статьями на эту тему, в которых один автор старательно дополняет выдумки другого. Появилось залихватское художественное произведение с налетом декадентского эротизма, эксплуатирующее захватывающую дух историю «авантюристки, советской разведчицы и поэтессы». А когда уже наполовину была написана книга, которую вы держите в руках, отдельным изданием вышла подробная работа Владимира Лоты на ту же тему. В нее, развернутую из старой статьи, оказались включены важные исторические документы, имеющие прямое отношение к нашей героине и до сих пор недоступные гражданским историкам. Сами по себе они являются исключительно ценным материалом для исследования. Но текст, обрамляющий эти материалы, содержит порой столь серьезные противоречия, что вызывает серьезное недоумение: как же все-таки было на самом деле? Практически одновременно с этой публикацией на экранах страны грянул художественный телесериал – не о реальной Елене Феррари, но все про ту же роковую красотку (правда, почти вдвое прибавившую в возрасте) – губительницу флота и разбивательницу сердец с помощью отточенной рифмы и ассонанса.
Приходится признать: героиня явно стала настолько популярна, что заслужила себе место в серии «ЖЗЛ». Неясным оставалось только одно: ее подлинная биография. Кем была эта женщина? И насколько прав был я, держа поначалу в голове ее образ, сопряженный с образами Агнессы Мироновой и Лили Брик? Очевидно, что ответы на эти вопросы неразрывно связаны между собой. В попытках найти их я переходил из архива в архив, отправлял запросы, был обрадован и разочарован полученными сведениями и отказами, ругался с представителями некоторых ведомств и удивлялся памяти родственников героини, получал ценные советы от историков и литературоведов. Медленно, мельчайшими шажками, набивая обидные шишки, то и дело сворачивая в тупики и вынужденно возвращаясь обратно, теряя время и обретая знания, я продвигался вперед по темному и извилистому коридору прошлого.
Уже в начале пути выяснилось, что и мое собственное, и более ранних авторов представление о том, кто такая на самом деле Елена Феррари, как складывалась ее подлинная биография и действительно ли она совершила те подвиги, что ее прославили в веках, в значительной мере основано на пересказах слов одних людей другими людьми. Не раз и не два, пока я разбирался с этим «испорченным телефоном», в памяти всплывал бородатый анекдот:
– Хаим, я слышал: вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
– Не совсем.
– Что значит «не совсем»?
– Ну, во-первых, не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И, в-третьих, не выиграл, а проиграл.
Оказывается, самые авторитетные источники, которым принято доверять безоговорочно и беспроверочно, имели странную тягу к неуемному фантазированию, а в случае с нашей героиней их маниакально тянуло создавать о ней сказки. В то же самое время подлинных, не ангажированных и поддающихся перепроверке воспоминаний – да хоть каких-нибудь – не оставил почти никто. Она годами общалась со знаменитыми писателями, поэтами, художниками, входила в различные творческие организации, выступала на вечерах, издавала книги, писала картины, но клише воспоминаний коллег о ней лапидарно до обидного: «какая-то Феррари». Почему так получилось? Как это могло произойти? Нет ответа. История «Красной Феррари» вообще переполнена загадками, не находящими никаких документально подтвержденных объяснений: путаная история большевистско-анархистского подполья и партизаны, которые не партизанили, казусы «Лукулла» и сына Шкловского, одновременная работа в Берлине и в Париже, в Париже и Риме, двойная вербовка Вукелича и две «Ольги» с аппендицитами в одной резидентуре… – обо всем этом узнает читатель, решивший пройти с автором до конца истории. А сколько в ней еще таких загадок, о которых мы пока просто не знаем…
Более десяти лет своей жизни Елена Константиновна Феррари отдала советской военной разведке. Абсолютное большинство материалов почти столетней давности о ее (да и не только ее) деятельности в этой службе до сих пор засекречено. Но даже то, что известно – а это, как правило, сведения, связанные с ее начальниками, – заметно мифологизировано. Сегодня принято считать, что все руководители тайных служб тех времен были «гениями разведки», а их подчиненные сплошь и рядом – «настоящие мастера шпионажа». Увы, если средний уровень образования в стране был близок к церковно-приходской школе, если у многих командиров и начальников в секретных ведомствах не хватало знаний, чтобы без ошибок написать элементарное письмо или заполнить анкету, то можно ли поверить в то, что они были в состоянии грамотно руководить огромной, сложной, неординарной организацией? Можно ли доверять кадровикам, которые, к примеру, записывали данные о знании иностранных языков разведчиками с их же слов, не в силах проверить их, поскольку ни они сами, ни кто-либо вокруг не знали вообще никакого языка? А ведь это было обычной ситуацией для 1920-х годов (и если бы только для них). Неудивительно, что Елена Феррари, действительно имевшая настоящий лингвистический талант (и этому как раз есть подтверждения), побывавшая в Европе еще до революции, не лишенная литературного дарования, чувствовала себя неуютно в компании коллег, хотела выделиться и со временем становилась все более и более амбициозной, мнительной и раздраженной женщиной.
Монотонная трескотня бывших завхозов от разведки, секретчиков и кадровиков, строчивших пустейшие мемуары о своем «пути в профессии», и их романтично настроенных фанатов сплела настоящий кокон – мягкий и непроницаемый – вокруг подлинной истории советской тайной службы, которая на самом деле вряд ли хуже или лучше любой разведки мира. «Готическая таинственность» и высокомерная убедительность, о которых так точно написал бывший британский шпион Дэвид Корнуэлл, он же знаменитый писатель Джон Ле Карре, чьи слова вынесены в эпиграф к этой книге, часто прикрывали безграмотность, невежество и карьеризм, стоившие жизни и свободы многим настоящим разведчикам прошлого. Собирая материалы о Елене Феррари, я то и дело вступал в описанный в самом начале диалог относительно веры и неверия в случайности совпадения и всякий раз получал обескураживающий ответ: «Ничего не известно. Никаких подтверждений этому нет, но разве бывают такие совпадения? Вы в это верите?»
Должен огорчить часть потенциальных читателей: я скорее готов поверить в случайности, которые правят миром, чем стать адептом секты конспирологов, и считаю, что каждый здравомыслящий историк меня поддержит: факты важнее веры. Этого правила я старался придерживаться во время написания книги о Елене Феррари, и оно же заставляло меня неоднократно менять внутреннее отношение к своей героине. Надеюсь, это был путь к объективности. По той же самой причине я тщательно старался избегать собственных соблазнительных фантазий в стиле «И тогда Ольга со всей ясностью почувствовала, что…»; «В цехе Ольга подружилась с такими же…». Откуда нам знать, что и когда она почувствовала и дружила ли она вообще с кем-нибудь, любила ли кого-то – если об этом не оставлено недвусмысленных свидетельств? С другой стороны, допустимо предложить читателям подумать вместе с автором, что́ она могла чувствовать или думать в какие-то моменты – это раскрывает авторское отношение к героине, и нормально, если читатель в чем-то будет не согласен с автором. Я старался соблюдать это и еще одно условие: если мне казалось, что отсутствие документов и уникальность ситуации позволяют строить какие-то версии относительно того или иного события, то пытался по возможности четко и определенно указывать на это читателю: «возможно», «не исключено», «есть версия, что…» и т. д.
К счастью, в любой организации, включая спецслужбы, встречаются не только поэты и писатели (почему-то литературная деятельность особо привлекательна для братии бывших шпионов), но и просто хорошие, умные, честные люди. Некоторые из них помогали и мне, за что я им крайне признателен. И, раз уж зашла речь о благодарностях, с большим удовольствием я говорю отдельное спасибо моему уже много лет бессменному личному редактору и помощнику – Марии Николаевне Бересневой, которой новая тема позволила особенно эффективно применить свои профессиональные знания историка и любителя поэзии. Я также искренне и глубоко благодарю всех, кто помог мне в изысканиях по этому непростому делу. Тех, кто немного подтолкнул в нужном направлении, родственникам Елены Феррари, для которых она прежде всего любимая и несчастная «тетя Люся» и которые раскрыли для меня семейные архивы, позволив почувствовать сопричастность к этой, очень личной для них, истории. Тех, кто переводил с неведомых мне языков, кто просто помог советом.
Айя Айратовна Алиева, Николай Игоревич Герасимов, Анна Борисовна Делоне, Олег Владимирович Демидов, Анатолий Викторович Дубовик, Олег Владимирович Каримов, Мария Классен, Владимир Иванович Коротаев, Олег Анатольевич Коростелев, Никита Анатольевич Кузнецов, Татьяна Александровна Кузнецова, Павел Вячеславович Малкин, Елена Рафаэловна Матевосян, Виктор Анатольевич Миронов, Василий Элинархович Молодяков, Владимир Владимирович Нехотин, Анастасия Геннадьевна Плотникова, Галина Эдуардовна Прополянис, Габриэль Гаврилович Старфин, Юрий Хангиреевич Тотров, Ольга Владимировна Учускина-Петсалаки, Лазарь Соломонович Флейшман, Александр Владленович Шубин – спасибо вам всем!
Исторические документы и переписка приводятся так, как в оригинале, если не указано иное.
Глава первая
Еврейка Люся
Хаим Нахман Бялик «Сказание о погроме»[2]. 1904 год
- Встань и пройди по городу резни,
- И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
- Присохший на стволах и камнях и заборах
- Остылый мозг и кровь комками: то – ОНИ…
Происхождение семьи нашей героини, корни ее генеалогического древа представляют собой довольно туманную картину, но вовсе не по причине какой-то намеренной таинственности, нарочито напускаемой спецслужбами. Будущая роковая женщина, femme fatale советской разведки, вошедшая в историю под броской фамилией Феррари, звезда резидентур Берлина, Парижа, Рима и Нью-Йорка родилась бесконечно далеко от любой столицы – в городе, малоизвестном за пределами Российской империи. Она появилась на свет 19 октября (нового или старого стиля – неизвестно) 1899 года в городе Екатеринославе (ныне – город Днепр на территории Украины), и нарекли новорожденную Ольгой Федоровной Ревзиной. В семье, среди родных и друзей нашу героиню всю жизнь звали Люсей, и со временем это имя перекочевало в протоколы спецслужб и даже в переписку резидентур, хотя и несколько измененное на французский манер: Люси.
Малая родина Люси – Екатеринослав, хотя и не гремел славой за пределами империи, для самой России был местом стратегически важным. Расположенный в самом центре Таврического края, он начал планомерно застраиваться в конце XVIII века как третья – Малороссийская, или Новороссийская (и даже назывался так одно время – Новороссийск) столица империи. Ко времени рождения Ольги город превратился в крупный промышленный и транспортный центр, связывающий железнодорожными, водными и сухими путями Криворожский железорудный бассейн, угольные шахты Донбасса, Киев и Черное море. Пять огромных металлургических заводов, не считая массы менее крупных предприятий, паровозные депо, речная пристань, электрический трамвай (третий в стране – после Киева и Нижнего Новгорода!), гимназии, реальное училище, театры и более 120 тысяч человек жителей – таким был Екатеринослав в 1899 году. И более трети людской массы, населявшей этот город, составляли евреи.
В следственном деле, заведенном на Елену Феррари Главным управлением государственной безопасности (ГУГБ) Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в 1937 году, подшита «Анкета арестованного». Есть там, конечно, и строка «национальность», в которой содержится краткое и на сегодняшний взгляд несколько странное определение: «русская (из евреев)»[1]. Однако для тех лет подобная формулировка была обычной и означала, что арестованная, хотя и родилась в еврейской семье, по вероисповеданию (по крайней мере, официально) являлась православной. Возможно, была выкрестом во втором поколении, то есть дщерью перешедшего в православие иудея.
Ее фамилия – Ревзина (Ревзин) не самая редкая в Российской империи, но в Таврии она встречалась не так часто, как севернее – в еврейских местечках на территории современной Белоруссии. По одной из версий, она произошла от женского имени Ревза, что означает Роза. В целом ряде документов, касающихся нашей героини и относящихся к первой четверти XX века, она существует исключительно в мужском роде: Ольга Ревзин или, и даже чаще: Люся Ревзин, как если бы была иностранной. Но идиш, бывший в начале XX века основным языком еврейских диаспор, как раз и относится к так называемым «немецко-еврейским» языкам, а потому найти пример в Германии несложно: знаменитая немецкая коммунистка, ставшая автором идеи Международного женского дня, звалась Клара Цеткин, а не Клара Цеткина. Чтобы сравнение было более корректным вспомним наших соотечественниц: Надежду Вольпин – поэтессу, одну из подруг Сергея Есенина, Наталью Меклин – советскую летчицу, Героя Советского Союза. Проще говоря, в старом русском языке еврейские фамилии часто не имели женского рода.
В семейном архиве потомков мужа Ольги Ревзиной о ней сохранилась краткая, но характерная запись: «Был женат на Люсе-еврейке…» Ее непонятный, даже немного странный (то ли итальянский – если ее встречали за границей, то ли семитский – если отзывались о ней москвичи) облик с огромными, светлыми и печальными глазами и невероятной красоты ресницами запечатлели в своей памяти все, кто ее знал. Но дело, конечно, не только во внешности, которая позже помогала Люсе, как и сотням ее коллег-евреев из советской разведки, так удачно растворяться в массе южноевропейских жителей, и даже не в фамилии, которую она поспешила сменить при первой же возможности. Происхождение нашей героини из-за черты оседлости может оказаться чрезвычайно важным для понимания того, как формировался характер этой женщины, в каких условиях прошли ее детство и юность, понимания того, как она стала тем, кем стала, и почему, в конце концов, погибла.
В той же «Анкете арестованной» перечислены родственники Ольги Федоровны Ревзиной: «Брат – Воля Владимир Федорович – ВРИО начальника 8 отдела Разведупра, бригадный комиссар. Проживает: Каляевская, д. 5, кв. 263. Брат – Ревзин Рафаил Федорович – учащийся, проживает: завод “Майкор”, Свердловская область. Сестра: Ревзина Любовь Федоровна – учащаяся, проживает там же; мачеха Ревзина Капитолина Ивановна – инвалид, проживает там же; приемная мать Давидович Эмма Ионовна[2] – зубной врач, проживает в Кисловодске, Красноармейская, 12»[3].
Уже в этом списке были скрыты загадки, которые предстояло разгадать. В чем разница, к примеру, между мачехой и приемной матерью и как они обе оказались родственницами Ольги Федоровны? Почему некоторые из родственников живут в настолько отдаленных от Екатеринослава краях, что непонятно, как они могли туда попасть? Но для нас все же наибольший интерес представляет биография старшего брата Ольги – Владимира. Он родился в семье штейгера (горного мастера) Федора Абрамовича Ревзина[4] (по другой версии, исходящей, как и первая, от самой Ольги Ревзиной, – в семье мещанина и механика-самоучки[5]) на полтора года раньше сестры – 19 февраля 1898 года[6], и не в Екатеринославе, а в городе Кременчуге, расположенном выше по течению Днепра.
Кременчуг в конце XIX века – город примерно вдвое меньше Екатеринослава, но еврейская часть населения пропорционально еще более велика: около половины жителей. К сожалению, в опубликованных в интернете сведениях о горожанах семья Ревзиных не упоминается, а коммуникации с архивами Украины затруднены, так что можно только предполагать: штейгер Федор Абрамович Ревзин мог найти себе работу в этих краях, когда разрабатывался Криворожский железорудный бассейн – Кривбасс. В 1884 году сюда была проведена железная дорога и началось промышленное освоение месторождения. Важный момент: в горном деле, вне зависимости от того, каким способом ведется добыча – открытым или закрытым (шахтным), используется взрывчатка. Мы этого не знаем точно, но штейгер Федор Ревзин вполне мог оказаться специалистом и в этой, весьма своеобразной, всегда востребованной и за пределами месторождений профессии подрывника. Более того, вполне вероятно, что сам Федор родился не в Кременчуге да и Федором был не всегда. В сохранившихся ведомостях Екатеринославской мужской гимназии есть запись о неком отчисленном по причине неуплаты за обучение сыне мещанина Фриделе Ревзине, родившемся 2 июня 1874 года. Покинул гимназию указанный ученик 23 февраля 1892 года, то есть в возрасте семнадцати лет[7]. Если предположить, что этот Фридель Ревзин позже крестился, став Федором Ревзиным, то вполне возможно, что именно он являлся отцом Владимира и Ольги. В таком случае их переезд из Кременчуга в Екатеринослав стал возвращением на родину после того, как бывший гимназист крепко встал на ноги. Однако этой версии противоречит автобиография Владимира, написанная им в 1926 году при поступлении в Коммунистический вечерний университет имени Я. М. Свердлова. Огромный вопрос – насколько эта автобиография вообще соответствует действительности, но, так или иначе, Владимир Ревзин вспоминал (почерк его, увы, не похож на сестринский и во многих местах неразборчив):
«Отец служил в промышленных предприятиях и разных подрядах младшим… <неразборчиво>. Он с 14 лет жил самостоятельным трудом. Работал рабочим в Северо-Американских Соединенных Штатах, затем в разных странах Европы и одновременно учился в технических учебных заведениях, но кончить ему не удалось ни одного.
В России, вследствие революционной деятельности и преследования полицией, он был вынужден часто менять место и службу. В этой обстановке гонений, частых обысков и крайней нужды воспитывалась сестра (она на 1,5 года младше меня) и я.
Мать нас учила грамоте, революц… <неразборчиво>, и рассказывала о жизни революционеров.
Товарищи отца и матери тоже рассказывали о своих похождениях, которых я смутно помню. Это Негрескул (Миша)… <неразборчиво>, Зина (Лаврова), машинист… <неразборчиво>»[8].
Помимо чрезвычайно упорного, и оттого несколько сомнительного, акцентирования на революционно-бедняцком происхождении (с другим в указанное заведение, скорее всего, Владимира Федоровича могли просто не принять), в этом фрагменте не могут не удивлять отсылки к знаменитым народникам XIX века. Михаил Федорович Негрескул – зять выдающегося русского революционера, одного из идеологов движения народничества Петра Лавровича Лаврова, скончался от чахотки в 1871 году, не дожив до тридцати лет[9]. Зинаида Лаврова – возможно, одна из его дочерей. Вряд ли Владимир Ревзин мог помнить их хотя бы смутно, и нет никаких подтверждений того, что с ними мог быть близко знаком его отец. Может быть, они упоминались в каких-то разговорах и абитуриент Ревзин ввернул громкие фамилии в автобиографию для повышения собственного «революционного» статуса? Так или иначе, любая из версий происхождения отца Елены Феррари («профессиональный народоволец» или «выкрест Фридель Ревзин») сегодня пока не подтверждена и не опровергнута. И в любом случае в 1898 году – в период между появлениями на свет сына Владимира и дочери Ольги – семья Ревзиных перебралась в Екатеринослав.
Трудно сказать, насколько переезд (возвращение?) помог семье обрести счастье. Всего через несколько лет, в 1905–1907 годах, Екатеринослав, крупнейший промышленный центр Украины, переполненный крупными заводами с многотысячными коллективами рабочих, занятых в основном на тяжелейшем металлургическом производстве, стал ареной сражений между пролетариатом и полицией в ходе первой русской революции, а затем по нему прокатились волны террора и еврейских погромов.
Строго говоря, первый крупный еврейский погром в городе был зафиксирован еще в 1883 году. Его пришлось ликвидировать с привлечением не только полиции, но и регулярной армии, после чего на пару десятилетий волна антисемитизма отхлынула от порога екатеринославцев. В следующий раз ситуацию резко обострили чрезвычайные события: Русско-японская война, повлекшая за собой падение уровня жизни и, как следствие, поиск «внутреннего врага» националистическими элементами, и неудачная пролетарская революция, которую в городе поддержали многие рабочие с крупных предприятий. Во время массовых избиений евреев в октябре 1905 года в Екатеринославе были убиты, по разным данным, от 64 до 189 человек, несколько сотен получили ранения. Как выглядели эти погромы, каждый читатель, вероятно, представляет себе по фильмам и литературе. Местный житель Владимир Дальман свидетельствовал: «…внешняя картина погрома была везде поразительно однообразна. По улице с гиком и свистом пробегал отряд казаков. Они стреляли в прохожих, работали нагайками и “очищали” улицу. Это требовалось для того, чтобы навести страх на самооборону. Улица замирала, и вот в этот-то момент появлялись банды хулиганов. Начинался погром, и через полчаса дело было сделано: дома разрушены, битое стекло, обломки мебели, пух и перья покрывали мостовую, слипаясь с грязными ручейками крови. Затем появлялись солдаты: они “прикрывали тыл” хулиганам все от той же еврейской самообороны…
Нас как громом прошибла страшная новость: с одного из пунктов близ пароходной пристани сообщили, что в 7 часов вечера к пристани подъезжал пароход с массой евреев, спасавшихся от погромов из различных городков по верхнему течению Днепра, на пристани этот пароход поджидала толпа хулиганов в чаянии добычи; как ни просили и не молили несчастные пассажиры, матросы отказались повернуть пароход обратно, и, едва пароход причалил к пристани, как на него ворвалась дикая банда, и началась расправа… Несколько десятков человек раненых побросали в воду, около десяти трупов выбросило впоследствии на берег»[10].
25 октября екатеринославский полицмейстер подвел итоги резни сухим языком рапорта на имя губернатора:
«Доношу Вашему Превосходительству,
что во время происходивших в последние дни беспорядков в городе Екатеринославе разбито и разграблено 122 лавки, 64 магазина, 135 рундуков, 40 квартир и сожжено 5 домов. Убито евреев холодным оружием: 34 мужчин, 9 женщин, 1 девочка; огнестрельным оружием – 20 мужчин. Русских: 6 мужчин и 1 женщина огнестрельным оружием. Турок: 1 мужчина огнестрельным оружием. Ранено холодным оружием и огнестрельным оружием 48 человек евреев и 46 русских».
Одним из самых явных результатов этого кровавого кошмара стал массовой отток евреев из Российской империи вообще и из Екатеринослава в частности. До начала Первой мировой войны губернию покинули около 27 тысяч евреев[11]. Другим принципиально важным итогом погромов стало укрепление сил национального и интернационального сопротивления. Уже в ликвидации этого погрома, как и других – более мелких, принимали участие силы еврейской самообороны – добровольные формирования, состоящие в основном из молодых, физически крепких и решительно настроенных членов диаспоры. В отличие от прежних времен теперь среди них велась политическая пропаганда, объяснявшая, что власти попустительствуют погромщикам, а значит, остановить насилие можно не ожиданием вмешательства этих же самых властей, а, наоборот, их насильственной сменой. Это сближало позиции собственно еврейских отрядов и интернациональных кружков социал-демократов, эсеров и анархистов, имевших большое влияние на екатеринославский пролетариат. Одна из групп самообороны, созданная левой еврейской партией «Поалей Цион»[3] (основанной в 1901 году в самом Екатеринославе), даже была объединена с отрядом заводских рабочих, насчитывающим около пятидесяти человек и возглавляемым социал-демократами[12]. Всего «поалейционовцев» в городе насчитывалось около ста человек. Еще более восьми сотен местных жителей представляли Бунд – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, строивший свою идеологию на марксистской основе и ориентировавшийся в разные периоды времени то на большевиков, то на меньшевиков, но в любом случае – на Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Так, помимо своего желания и тем более желания властей, еврейская молодежь Екатеринослава оказалась чрезвычайно сильно политизирована и готова на самое решительное сопротивление кому бы то ни было. Видевшие своими глазами не только ужас грабежей, разорения, убийств, изнасилований, но и неспособность власти противостоять им, а то и прямое попустительство и подстрекательство, еврейские парни и девушки горели желанием мстить.
И не только еврейские. Среди рабочих других национальностей, прежде всего украинцев (малороссов), которых здесь было большинство, и русских, царила атмосфера не менее гнетущая, а настроения ненамного более оптимистичные. Это была именно та обстановка, которую воспроизвел в романе «Мать» литературный кумир молодежи начала XX века Максим Горький – человек, которому суждено будет сыграть особую роль в нашей истории. Это была та правда, за которую Горького любили и благодаря точному выражению которой он получил заслуженный статус настоящего народного писателя.
Картину, запечатленную Горьким, почти дословно (возможно, и под его непосредственным влиянием) и с еще большей документальной, биографической точностью изобразил в своих воспоминаниях Григорий Иванович Петровский – крупнейший деятель Российской социал-демократической рабочей партии в Екатеринославе. Позже, уже после Октябрьской революции, он стал одним из создателей Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), а в конце 1930-х годов – заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР и потерял в застенках НКВД сына. В Екатеринославе Петровский еще до революции 1905 года фактически сменил в подполье другого видного члена РСДРП – Ивана Васильевича Бабушкина, отбывавшего в Малороссии ссылку и организовавшего в Екатеринославе рабочие кружки. Начинал же работу Петровский на местном Брянском металлургическом заводе в возрасте пятнадцати лет:
«Приехав в Екатеринослав и подойдя к заводу, я увидел величественную картину огнедышащей фабрики. Завод источал из себя огромные массы различных цветов дыма, пара, копоти, пыли, различных тонов стука, грохота, скрипа, свистков, сигналов и звонков, а вдали от завода, как будто бы на острове, стояло какое-то здание, кругом залитое водой, около которого возвышались две трубы. На мои расспросы, где водокачка Брянского завода, мне указали на это залитое водой здание. Подойдя к пристани, я заметил, как повернули лодки, которые подвозили и отвозили обратно смены рабочих. <…>
Рабочий день на заводе продолжался с половины седьмого утра до 7 час. вечера с полуторачасовым перерывом на обед. Завтрака не полагалось, но все рабочие в узелках приносили с собой завтрак, урывками, прячась от всех рангов начальства, где-нибудь в уголке под доской съедали его. Некоторые приспособлялись кипятить себе чай и также потихоньку урывками распивали его. Но начальство все время боролось с этим. <…> Масюков (тип, которых часто описывают социалисты, как французские или бельгийские капиталисты расправлялись с невольниками в Африке) иногда на своем пути случайно нападал в тот момент, когда рабочий, развернувши тряпочку, ел кусок хлеба. Масюков подходил и ногой отшвыривал тряпку и кусок хлеба, приказывал штрафовать на половину поденного жалованья нарушившего заводские правила рабочего с предупреждением, что, если это повторится, он выкинет его совсем с завода. Если он натыкался на ведерко с кипяченым чаем (а чай тогда, нагревавшийся на курнике, отчего пропитывался запахом серы, представлял для рабочих лакомое блюдо), разбивал ведерце о землю с таким же последствием для рабочих – штрафом и предупреждением на выкидку.
Громадина-завод поражал своей капиталистической стихией. В то время здесь работало тысяч пять или шесть народу. Редко, когда проходил день, чтобы не было убийств на заводе, а то обычно пять-шесть и даже десяток жертв всегда было. Что же касается травматических повреждений, то они считались десятками. И слышен был кругом стон от тяжелой работы, слышались всегда жалобы между собой рабочих о том, когда из этой невылазной бедности придется выйти.
Я помню тогда свое положение. На завтрак себе я мог брать только небольшой кусочек хлеба и больше ничего. Иногда, видя, что я в сухомятку жую хлеб, иной мастеровой, получая 1 руб. 20 к. – 1 руб. 40 коп. в день, подойдет и даст мне огрызочек сахару и нальет остаток старого провонявшего серой чая: “пей, Петровский”… Если нужно бывало закурить, то по очереди одной спичкой закуривали три-пять-семь человек… Обращение с рабочими было, что называется, “галантерейное”: при малейшем сопротивлении рабочие рассчитывались, при малейшем сопротивлении или строптивости требовались архангелы, выносили в знаменитую кордегардию проходных ворот и там уже кулаки черкесов и полицейских уснащали сознание пролетарию в незыблемость установленных порядков…
Здесь были не только избиения – это было тогда в порядке вещей, – но истязание с отборной руганью, плевки в лицо, сбивание с ног рабочего и топтание ногами. Что касается штрафов, так это была тогда самая доходная статья у каждого начальника…
Если Масюков увидел, что рабочий курит – 50 коп. штрафу (при норме ежедневной выработки около 35 копеек. – А. К.), застанет рабочего сидящим и отдыхающим – тоже штраф; остановился рабочий поговорить с товарищем на минутку – опять штраф, перед шабашем за пять минут кто-либо помыл руки, он подходит, рассматривает руки и опять штраф. Трудно рассказать и припомнить сейчас, сколько причин было для этих двух свирепых эксплуататоров, чтобы они ястребом набросились на рабочего, с целью унизить, оскорбить, оштрафовать его или сбавить расценку. Для них это был высший закон – рабочего сделать нищим, зависимым от них, это казалось им идеалом порядка в заводе, и они подобные вожделения высказывали вслух»[13].
Революция 1905 года закончилась неудачей, но, несмотря на это, наглядно продемонстрировала заводской молодежи, что если нет возможности жить, то хотя бы умереть можно по-другому. Не от истощения и туберкулеза в заводской землянке, а со смыслом, дерзко, «на миру». Рабочие не хотели существовать так, как до сих пор, не верили больше никакой власти, не признавали никакую силу, кроме собственной, и даже временное подавление этой силы государством не казалось им теперь вечным и безысходным. Им нужна была только еще более серьезная идеологическая подпитка, стройная теоретическая база, которая могла бы сплотить их вокруг того или иного революционного учения, нужны были система и организация. Самое главное, им нужны были революционеры-учителя, наставники, и эти учителя пришли.
Создателем одного из первых рабочих кружков большевистского толка стал представитель еврейской диаспоры Гавриил Давидович Лейтензен («Вознесенский», «Валерин», «Линдов»), именем которого потом была названа улица в Туле, где он долгое время работал на знаменитом оружейном заводе. Некоторое время в городском подполье скрывался один из организаторов первых марксистских кружков в Забайкалье Моисей Израилевич Губельман – брат будущего главы Союза воинствующих безбожников и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) Емельяна Ярославского. Как бывшие екатеринославские подпольщики-большевики стали известны потом Серафима Ильинична Гопнер («Наташа»), Григорий Исаакович Чудновский – участник захвата Зимнего дворца, Соломон Исаевич Черномордик – один из основателей Музея революции в Москве, и многие другие подпольщики, поднявшие общий уровень пропагандистской работы в Екатеринославе на высоту, недосягаемую для большинства губернских городов империи. И, когда много позже бывшая работница того самого Брянского завода, условия труда на котором описывал Георгий Петровский, Ольга Федоровна Ревзина будет рассказывать о своих «неуспехах» в большевистской пропаганде следователю НКВД, нам стоит вспомнить об этом самом уровне социал-демократической пропаганды и образования рабочих южной столицы Украины, об общем фоне, на котором выступала наша героиня.
Второй чрезвычайно влиятельной силой екатеринославского подполья стали анархисты. Летом 1905 года в город перебрался из Белостока агитатор Фишель Штейнберг («Самуил»), а за ним – опытный и чрезвычайно энергичный «Дядя Ваня» – Николай Игнатьевич Музиль-Рогдаев (не путать с другим анархистом, тоже «Дядей Ваней», но на самом деле Леонтием Васильевичем Хлебныйским – встреча с ним еще впереди). Очень скоро «Дядя Ваня» сумел перетащить на свои позиции одну из районных организаций эсеров, и уже в ходе революции анархисты Екатеринослава принялись осуществлять близкую и им самим, и эсерам тактику террористических актов в отношении представителей власти. В октябре 1905 года взорвалась первая анархистская бомба: был убит директор одного из машиностроительных заводов. Другой лидер анархистов – Николай Стрига (Владимир Лапидус), сначала попытался поднять в городе восстание по типу киевского, а когда план провалился, тоже обратился к практике террора. С именем Стриги связывают начало «эпохи экспроприаций» («эксов») в Екатеринославе, когда деньги на изготовление бомб, закупку оружия и боеприпасов, шрифта для печатных изданий подполья и «помощь арестованным товарищам» анархисты получали путем «экспроприации у экспроприаторов», то есть с помощью банальных грабежей и рэкета «богатеев».
Постепенно полиции и войскам удалось прекратить и революционные выступления, и погромы, а террористические акты в силу неумелости их планировщиков и исполнителей совершенно не оправдали надежд анархистского подполья. Однако наступившее спокойствие лишь на время укрыло пеленой тумана внешней законопослушности ослабленное, но не уничтоженное окончательно антиправительственное движение. Остатки кружков и союзов социал-демократов, социалистов-революционеров, еврейских социалистов-бундовцев, анархистов и приверженцев всех прочих антиправительственных организаций и течений, время от времени создаваемых и вскоре исчезающих, – к 1908 году практически все они ушли в глубокое подполье, дожидаясь своего часа. Но… как история революционного Екатеринослава связана с судьбой нашей главной героини и ее брата? Ответ на этот вопрос непрост.
Во время первой русской революции Ольге Ревзиной было всего шесть-семь лет. Хотя она наверняка видела, что творится на улицах ее родного города, не приходится всерьез говорить о том, что у нее могла сложиться цельная и внятная картина происходящего. Известно, что Федор Абрамович Ревзин сумел обеспечить поступление Владимира и Ольги в гимназию, где они должны были получить неплохое по тем временам образование, включая знание французского и немецкого языков. Похоже, что уровень жизни Ревзиных, вопреки позднейшим заявлениям Владимира Федоровича, хотя бы какое-то время позволял им существовать в относительной безопасности. Впрочем, ведь и Владимир Ленин, и Виктор Чернов, и Михаил Бакунин, и многие другие вожди РСДРП, эсэров, анархистов вовсе вышли из дворянского сословия – ни положение в обществе, ни материальное благосостояние не смогли изолировать детей привилегированного сословия от социальных потрясений, которые давно уже переживала вся страна. Не только каждый взрослый, но и каждый подросток, ребенок рисковал тогда оказаться в гуще событий, которые так скоро привели Российскую империю к гибели. Хоть каким-то шансом уберечься, спастись от участия в этом водовороте разрушений могло быть только физическое отсутствие человека в стране, и в какой-то момент именно так и получилось с Ольгой Ревзиной.
Судя по имеющимся у нас, пусть и не самым надежным, данным, в 1906 году – после революционных событий и в разгар погромов – тяжело заболела мать Владимира и Люси Ревзиных. У нее нашли туберкулез, главным лекарством от которого на рубеже XIX–XX веков считали смену климата. В условиях Российской империи врачи обычно рекомендовали поехать на юг, в Крым, до которого от Екатеринослава рукой подать. Однако Федор Абрамович Ревзин выбрал не Ялту и не Гурзуф, а Женеву – его жена с детьми Владимиром и Ольгой, которой в то время было семь лет, отправилась в Швейцарию. С одной стороны, это согласуется с версией о небедном происхождении семьи – лечение в Швейцарии никогда не стоило дешево, а уж жить там годами… С другой – существует «коммунистическая» автобиография Владимира Ревзина, отражающая совершенно иной взгляд на те же события.
«В 1906 году отец должен был скрыться после забастовки на руднике “Червонная балка” (Криворожский бассейн), в которой я активно участвовал. Мать, сестра и я уехали за границу. Бо́льшую часть времени прожили в Лозанне (Швейцария) – всего около одного года.
Вскоре по приезде в Россию мать умерла от чахотки в крайней нужде. Сестра и я тоже были больны ею. Это начало 1909 года[14]. Я начал работать в г… <неразборчиво> Екатеринославской губернии в местной лавке на побегушках и затем на механическом заводе помогал чем мог механикам, слесарям… <неразборчиво>.
Платили мало. Было голодно. Затем отец прислал денег, и мы поехали к сестре матери в г. Екатеринослав. Она давала уроки. Отец работал техником на Софиевских карьерах ст. Б… <неразборчиво> Екатеринославской железной дороги и в 1914 году забрал нас к себе. Я помогал ему работать и работал плотником на подъездной дороге. Начал учить математику и прикладные науки, мечтал поступить на какие-нибудь технические курсы»[15].
Получается, что в общей сложности за границей Ревзины провели около двух лет, в том числе около одного года в Швейцарии. Немалый срок, особенно для детей. В нежном возрасте, как известно, легко усваиваются иностранные языки, и Люся, скорее всего, успевшая получить какое-то начальное образование дома, оказалась в Европе в самое благоприятное в этом смысле время, погрузившись, хотя и не по своей воле, в чуждую ей языковую среду. Швейцария с этой точки зрения могла оказаться особенно удачна, поскольку находилась «на стыке» сразу нескольких европейских языков. В будущем ей это сильно пригодится, а пока…
Вернувшись в Екатеринослав, Ревзины прожили около пяти лет со своей тетей. Возможно, упомянутая в анкете 1937 года зубной врач Эмма Ионовна Давидович – это именно она. Никакого ухода, бегства из дома, о котором часто сообщают переписчики одной и той же, «канонической» статьи-биографии Елены Феррари, от «отца-алкоголика» не было. Судя по дальнейшим событиям, все было как раз наоборот: отец, как мог, старался обеспечить жизнь детей. Другое дело, что не всегда получалось.
Из опубликованной официальной биографии Владимира Ревзина известно, что с марта 1914 года он работал на одном из екатеринославских заводов, спустившись, таким образом, из прослойки еврейского среднего класса Екатеринослава в самые что ни на есть пролетарии. Трудился сначала токарем и электриком (последние высоко ценились среди террористов – электрики умели управляться с взрывными устройствами)[16]. Версия неофициальная, но зато его собственная, выглядит несколько иначе: «В конце (а не в начале. – А. К.) 1914 года я с сестрой поехал в Екатеринослав работать в пятиминутной фотографии. И там, чтобы учиться, отец уехал работать на Урал-Майкорский завод. Я поступил на технические курсы и одновременно учился. Сестра тоже работала. Вскоре хозяйка фотографии умерла. Она осталась в нашей памяти как настоящий человек, меня с сестрой приняла на равных началах. Всего было пять человек. Учились все (все были молоды). На жизнь фотография давала крайне мало. Голодали все вместе. Вскоре один был взят на войну, другая вышла замуж, я поступил в мастерские фрезеровщиком и токарем, так как фотография тогда перестала давать средства»[17].
Возможно, со временем, заполняя одну за другой новые анкеты, Владимир Федорович просто удлинил свой пролетарский стаж, выбросив из биографии невнятные фотографические месяцы и заменив их на куда более надежную с точки зрения пролетарского происхождения работу (в разных вариантах) то ли токарем, то ли электриком, то ли фрезеровщиком – одним словом, рабочим.
Ольга тоже в автобиографии рассказывала, что первое время помогала деревенской портнихе, летом нанималась на полевые работы в селе Софиевка Славяносербского уезда, а потом устроилась в одно из фотоателье Екатеринослава – в «Фотографию Штейна» на Первозвановской улице[18]. Лишь в 1916 году она вернулась к учебе, поступив в шестой класс гимназии – это был финал ее очного гражданского образования. Позже она сдаст экзамены, но уже экстерном, за восьмой класс[19].
Украинский историк анархизма Анатолий Дубовик, опираясь на собственные исследования, называет брата и сестру Ревзиных (под псевдонимами: он – Владимир Воль; она – Елена Феррари) в числе екатеринославских юношей и девушек, присоединившихся к местной группе «анархистов-коммунистов» (была и такая) уже в 1914 году[20]. Информация выглядит достоверной: окунувшись в самостоятельную жизнь, молодые Ревзины очень скоро могли эту жизнь невзлюбить и начать искать пути, ведущие к жизни новой – справедливой, без погромов, свободной, но точно не спокойной…
Глава вторая
Как Феррари становилась «Красной»
Борис Пастернак «Весенний дождь». Лето 1917 года
- Это не ночь, не дождь и не хором
- Рвущееся: «Керенский, ура!»,
- Это слепящий выход на форум
- Из катакомб, безысходных вчера.
- Это не розы, не рты, не ропот
- Толп, это здесь, пред театром – прибой
- Заколебавшейся ночи Европы,
- Гордой на наших асфальтах собой.
Любопытную картину нелегального «образования» рабочих Екатеринослава в 1912–1914 годах рисует один из основателей Коммунистической партии Украины, поочередно побывавший в рядах бундовцев, анархистов, большевиков, ставший чекистом, а затем логичным образом репрессированный Моисей Ефимович Равич-Черкасский (Рабинович).
«Рабочие газеты тогда продавались одним-двумя газетчиками. Продавали меньшевистский “Луч” и большевистскую “Правду”. Нельзя сказать, чтобы в городе (я не говорю о заводах) они распространялись в большом количестве. Кроме того, разносчики, вручая газету, всегда делали вид, что они совершают какой-то героический подвиг, продавая революционную газету, что этот подвиг – тайна для недремлющего полицейского ока и что за этот подвиг нужно заплатить лишнюю копейку: не пять копеек, а шесть. Кроме того, рабочие газеты получались нерегулярно.
Со службы я всегда направлялся в одну из столовых, забирая у газетчиков очередной номер “Луча” и “Правды”. Эти столовые мне казались каким-то оазисом в пустыне города, находящегося в стране царской деспотии, полицейщины, жандармских застенков. Я садился за один стол с людьми, мне совершенно незнакомыми, чувствовавшими себя здесь, как в “нейтральной зоне”. Говорили свободно, не стесняясь, обо всем, горланили, спорили. Тут были меньшевики, большевики и даже анархисты. Как чужой человек, я за обедом не вмешивался в споры и, глядя в газету или в тарелку, слушал споры, временами возмущаясь беспечностью спорящих. Здесь далеко не все знали друг друга, при входе ни у кого партийного билета не требовали, и я не сомневался в том, что среди обедающих было немало агентов охранного отделения…
Бывали случаи, когда тот или иной из обедавших обращался ко мне с просьбой дать ему пересмотреть номер “Луча” или “Правды”. Некоторые повторяли эту просьбу часто. Таким образом, у меня завязывалось знакомство. Была такая группа лиц, которых я изучал изо дня в день, наблюдая за обедом за их разговорами тихими, короткими. Я знал все, если не фамилии, то имена. Так я сошелся с тов. Абрамом. Парень высокого роста, красивой наружности, чрезвычайно энергичный с умным выражением лица. Мы с ним пару-другую раз обменялись мнениями по злободневным вопросам. Он сообщил мне, что нужда в интеллигентных работниках колоссальная, что он берет на себя посредничество между мною и организацией. Для него из наших коротеньких бесед стало ясно, что я ищу связей с большевиками. Я ему сообщил свой адрес, так как из организации должен был прийти “следователь” для того, чтобы ощупать меня со всех сторон… В этот промежуток времени я сталкивался с вышеназванным Абрамом в столовой. Он очень интересовался последствиями переговоров. Он близко принимал к сердцу интересы партии и был в высшей степени предан ей (Тов. Абрам в 1917 году сделался анархистом Екатер[инославской] федерации)»[21].
Неизвестно, носил ли Владимир Ревзин подпольную кличку «Абрам», но анархистом Екатеринославской федерации он сделался точно. Причем именно в 1917 году. Сделался не сразу. Его, равно как и его сестры Люси, приходу под черные знамена анархии предшествовала бурная и не до конца проясненная история с кумачовым оттенком. Вообще, революционная юность Ольги Ревзиной и ее старшего брата Владимира по уровню мифологизированности не является исключением из всего жизнеописания «Красной Феррари». Каноническая, хорошо известная ее версия при внимательном прочтении больше изумляет, чем разъясняет реальный ход событий уже более чем столетней давности. В равной степени это касается биографии и Владимира, и Ольги, ибо фактически тогда она у них еще была одна на двоих.
Согласно их собственноручно указанным сведениям в анкетах, в августе 1916 года Владимир Ревзин вступил в партию большевиков – РСДРП(б)[22]. «Ольга последовала примеру брата и получила партийный билет номер 23. Она также вступила еще и в члены Индустриального союза России»[23].
Может показаться странным, каким образом партбилет РСДРП, существующей с 1898 года, у вступившей в партию почти два десятилетия спустя Ревзиной оказался за номером 23. Но до 1917 года образца единого партийного билета в РСДРП не существовало. Каждая территориальная парторганизация печатала свои документы и со своей нумерацией. Вполне возможно (и даже скорее всего), таким же образом дело обстояло и в Екатеринославе.
Общая численность задействованных в революционных кружках марксистского толка и пока что находящихся на свободе рабочих там была невелика: на конец 1916 года, по оценкам полиции, не более нескольких десятков человек. С другой стороны, подпольные организации марксистов, пусть и совсем немногочисленные, имелись на каждом крупном заводе города, и это не укрылось от внимания полиции и жандармерии. В начале революционного 1917 года ротмистр Николай Николаевич фон Лангаммер, руководивший нелегальной агентурой Особого отдела губернского жандармского управления, докладывал, что его люди выявили в Екатеринославе шесть заводских ячеек РСДРП и одну – Украинской социал-демократической рабочей партии[24].
Несмотря на то что правоохранители ликвидировали марксистские кружки едва ли не по одному в месяц, окончательно уничтожить движение не удавалось – оно расползалось по заводам. Происходило это в значительной степени благодаря исключительно деликатному поведению самой полиции, стремившейся при проведении операций оставаться в рамках закона, и общему весьма либеральному ее настрою (вспомним откровения Равич-Черкасского). В соответствии с действовавшим тогда законодательством применение каких-либо репрессивных мер было возможно только при обнаружении улик, подтверждающих противозаконную деятельность, а подпольщики, отлично осведомленные о таком прекраснодушном поведении охранки, старались ничего противозаконного при себе не держать. В таких условиях особенно важной становилась активность нелегальных сотрудников полиции и тайных агентов среди самих марксистов, но и благодаря им охранка оказывалась лишь осведомлена о ситуации в городе, не имея ни воли, ни возможности раз и навсегда прекратить процессы революционного брожения.
С приближением к революционному 1917 году ситуация становилась все напряженнее. Вот как описывал события, предшествовавшие Февральской революции, уже знакомый нам жандармский ротмистр фон Лангаммер (сохранены орфография, пунктуация и подчеркивание оригинала): «Что же касается деятельности собственно городской города Екатеринослава группы РСДРП, то по сему делу в самом начале января месяца в Управление поступили агентурные сведения о том, что действующая в городе Екатеринославе инициативная группа городской означенной организации РСДРП решила выпустить свои прокламации, которые и появились в Екатеринославе 7 января к “Товарищам солдатам” с призывом к прекращению войны и [к началу] революции». Более того, представители кружков РСДРП(б) разных заводов решили объединиться с целью создания единого, мощного движения «большевиков-пораженцев» под общим лозунгом «Война войне!» и четко поставленными целями: срыв очередного призыва в армию и разложение морального духа на фронте с помощью социалистической пропаганды[25].
К концу января Особому отделу жандармерии от агентуры среди марксистов стало известно, что на 3 февраля и на следующие несколько дней социалистами запланированы антивоенные и антиправительственные демонстрации под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!». Не участвовать в них Ольга Ревзина не могла – согласно ее анкете 1935 года, с января 1917-го она уже являлась членом подпольного комитета большевиков[26]. Поэтому последовавшее решение властей перехватить инициативу у подпольщиков, срочно и внезапно пресечь подготовку к демонстрациям и арестовать активистов относилось к ней не в самую последнюю очередь. Аресты и обыски прошли в ночь на 2 февраля. Всего взяли 22 человека, но четверо из них были отпущены сразу же – их фамилии даже не попали в протоколы задержания. Логично предположить, что кто-то из четверых мог быть источником тех самых «агентурных сведений», которыми на протяжении многих месяцев пользовалось жандармское управление. Сведений неполных, ибо среди арестованных оказалось несколько человек, которые были включены в число заговорщиков только на основании данных наружного наблюдения, и даже их личности на момент ареста не были установлены. В протоколе фигурируют лишь клички, данные им филерами, и способ выхода на них сотрудниками полиции. Например, «Сердечная. Конспиративная квартира. Связана со всеми членами городской группы» или «Гречанка. Конспиративная квартира». И как не вспомнить тут автобиографию Владимира Воли-Ревзина, написанную в 1927 году: «…наша квартира, где находилась фотография “пятиминутка”, как ее звали, стала местом для явок и собраний. В 1916 году я и сестра вступили уже… <неразборчиво> в РСДРП (большевиков). У нас часто были обыски, но мы всегда держали всё в других местах, менее подозрительных. У нас приготовлялись документы для нелегальных… <неразборчиво> и т. п.»[27]. Внешний же облик Ольги Ревзиной, которую позже часто будут принимать за уроженку Средиземноморья, не может не навести на мысли о том, что упомянутая «Гречанка» вполне могла быть нашей героиней.
Владимиру вторит Серафима Гопнер – одна из главных участниц революционных событий на Екатеринославщине в 1917 году: «Некоторые собрания происходили на Первозвановской улице в фотографии, хозяевами которой являлись двое юношей (так в документе. – А. К.), брат и сестра (Воля и Люся Ревзин). На этой квартире, точно так же, как и на моей, собиралась небольшая группа интеллигентной молодежи, среди которой изредка попадались и рабочие (среди них Александр Суханов). В этой группе состязались анархисты с марксистами. Анархистскую философию подносил этой молодежи известный екатеринославский агроном Гертопан, оказавшийся с первых же дней революции в лагере самых озверелых врагов большевизма. Марксистскую платформу защищала я. Из этой группы молодежи выработалось несколько коммунистов (А. Суханов, В. Минухина, В. Ревзин и др.)»[28].
Воля и «В. Ревзин» – один и тот же человек, брат Люси Владимир (возможно, он же и «Абрам»). Это первое известное нам упоминание в прессе его клички, закрепившейся окончательно, видимо, уже позже, в годы Гражданской войны. Возможно, поначалу она была уменьшительным вариантом имени Владимир (разве сообразить, кто такой Владимир Алексеевич Костыльков, пока не скажут, что это Волька из «Хоттабыча»?). И только позже, уже в ходе боев, Владимир Федорович Ревзин становится известен под именем Михаил Яковлевич Воля (или Воль), а потом совершает обратный полупереворот, превратившись во Владимира Федоровича Волю.
«Нелегальные», то есть скрывающиеся от полиции и стоящие у нее на учете революционеры при облаве были арестованы. У одного изъяли оружие (браунинг), гектограф для печатания прокламаций и запрещенную литературу – дело ясное: опытный товарищ. Напротив фамилий и кличек остальных значится одно и то же: «Запрещенного не обнаружено», а значит, и претензий к ним быть не может. Но даже против тех революционеров, что были готовы с оружием в руках сменить власть в государстве, дело на этом закрыли. Вскоре после задержания к губернатору Екатеринослава прибыли ходатаи от заводов, требующие освобождения социалистов, занятых в том числе в сфере медицинского обслуживания рабочих, и добросердечный губернатор Андрей Гавриилович Чернявский попросил полицию всех отпустить. Спустя 20 лет его самого как бывшего царского чиновника и дворянина расстреляют чекисты, а пока что благодаря его ходатайству уже 6 февраля, всего через четыре дня после ареста, арестованные оказались на свободе. В их числе была и уже знакомая нам «ГОПНЕР Сима-Двойра Иоселева. Заведующая регистрацией в больничной кассе Брянского завода».
История с облавой на большевиков на их конспиративной квартире в фотографии на Первозвановской 2 февраля 1917 года и странное поведение жандармских следователей неожиданным образом заинтересовали следователей НКВД тогда, когда, казалось бы, уже никто не должен был об этом вспомнить. 25 января 1938 года арестованную Елену Феррари вызвали на допрос.
«– На следствии вы заявили, что в 1917 году за месяц до Февральской революции был арестован весь партийный комитет в городе Екатеринославе, при котором работали вы и ваш брат Воля (тогда Ревзин) Владимир Федорович. При каких обстоятельствах был арестован этот партийный комитет?
– Обстоятельств ареста не помню… Наша с братом квартира являлась конспиративной и явочной квартирой Екатеринославской партийной организации. Кроме того, я выполняла отдельные поручения партийного комитета»[29].
Этот диалог, если так можно назвать ответы на вопросы следователя, зафиксированные в протоколе, выглядит несколько странным. На первый взгляд, каким бы надуманным ни был повод для ареста Феррари в 1937 году, очевидно, что чекисты постарались собрать о ней как можно больше материала, включая данные о ее дореволюционном прошлом. Сама по себе такая практика была распространена: НКВД, обладая обширнейшими базами данных («Учета ББО (бывших белых офицеров)», «Харбинцев» и т. д.), искал изъяны в биографиях арестованных, начиная именно с дооктябрьского периода. Одной из главных задач органов в эпоху Большого террора являлось не только выполнение плана по аресту тысяч «шпионов», «диверсантов», «троцкистов» и «антисоветчиков», но и подтверждение марксистских тезисов о «родимых пятнах капитализма» и «усилении классовой борьбы» путем выявления в ходе массовых арестов действительных агентов царской полиции и жандармерии, иностранных разведчиков, среди которых находились такие, кто работал еще в царской России.
Иногда эти усилия приносили конкретные плоды. Но, судя по доступным сегодня архивным следственным делам, в подавляющем, в абсолютном большинстве случаев несчастные «бывшие», доведенные до отчаяния пытками, оговаривали себя, в чем было угодно следователю, надеясь таким образом приблизить своим мукам конец, каким бы он ни был. Ученые, учившиеся, стажировавшиеся, работавшие до революции за границей, называли себя шпионами всех разведок, под диктовку чекистов детально выписывая истории своих «предательств». Ошеломленные внезапным поворотом судьбы старые большевики, не ожидавшие, что когда-нибудь станут вспоминать заключение в царских тюрьмах как занятия в библиотеке, а ссылку почти как отдых на курорте, каялись в вымышленной работе на охранку и «выдавали» целые сети своих «единомышленников», якобы стремившихся изнутри подорвать дело революции. Относилась ли к таким Елена Феррари – Люся Ревзина?
Если допустить, что она сказала на следствии правду и их с братом квартира, которая действительно использовалась екатеринославскими подпольщиками-большевиками как конспиративная и явочная, стала местом ареста всего городского комитета партии, то сразу возникает вопрос: зачем она это сказала? Очевидно же, что при самом поверхностном анализе этого ареста первое подозрение падало на тех членов пролетарского горкома:
а) кто точно знал постоянное место сбора большевиков – хозяева явочной квартиры оказываются скомпрометированы в первую очередь;
б) кого вскоре после облавы либо отпустили, либо не арестовали вообще – и это снова брат и сестра Ревзины.
Кроме того, известно, что именно Владимир и Ольга охраняли место сбора подпольщиков в ночь ареста и это именно они не смогли подать сигнал тревоги[30]. Может быть, объект наблюдения «Сердечная» – это Ольга? Или она все-таки «Гречанка»? А может быть, «юноши» Ревзины оказались в числе тех четверых, чьи данные вообще не фигурируют в документах полиции? Если да, то почему? Ответов на эти вопросы нет, и вряд ли они появятся в будущем. Слишком много документов утрачено или уничтожено умышленно. Но сложно не видеть явного: признавшись (или «признавшись») в том, что на их квартире была провалена явка подпольщиков, а они не только не были арестованы, но даже ни разу не вызваны на допросы в полицию, Ольга Федоровна фактически дала повод чекистам обвинить ее вместе с братом в работе на эту самую полицию. Данное ею объяснение («я не знаю почему») – не объяснение вовсе. Тем более что далее арестованная продолжила выкладывать компромат на себя, заявляя (или подписывая выдуманное следователем «признание»), что еще за год до описываемых событий (то есть в январе 1916-го) на их же с братом квартире был арестован «студент или писатель, прятавший, как я помню, какую-то революционную литературу», и это опять никак не отразилось на жизни владельцев самой квартиры[31].
Рассказ Ольги об арестах большевиков в 1916–1917 годах характеризует ее саму как максимум второстепенную, не слишком важную фигуру среди подпольщиков. Этим же можно объяснить и почти полное отсутствие воспоминаний о ней среди тех большевиков, кто потом охотно делился своими мемуарами о «героической борьбе с царизмом». Снова получается расхождение с официальной версией, по которой в 1916 году она, гимназистка и литейщица, с «задатками агитатора» и готовится, ни много ни мало, «стать лидером революционного подполья в Екатеринославе»[32]. И в то же время, по ее же собственным словам, в их квартире живет какой-то то ли студент, то ли писатель, прячущий «какую-то» революционную литературу, а она, зная об этом, даже не интересуется – какую именно, – ей все равно.
Линия с явным намеком на связь Ревзиных с охранкой в 1938 году в деле Феррари внезапно обрывается, чтобы проявиться потом в деле Воли. Так же неожиданно изменилась ситуация и в Екатеринославе в 1917 году. Пока полиция арестовывала и выпускала большевиков, грянула революция, которую те так усиленно приближали, но столь скорого наступления которой никто не ждал.
«Пожалуй, главная особенность Февральской революции в Екатеринославе состоит в том, что сам город не являлся центром исключительной революционной активности, – отмечал украинский историк Максим Эдуардович Кавун. – И революция пришла в город со стороны (курсив мой. – А. К.), буквально свалившись на голову большинства жителей»[33]. Очень скоро по примеру крупных городов России в Екатеринославе организовался Совет рабочих и солдатских депутатов, формально взявший власть в свои руки, но контролировавшийся тогда еще не большевиками, а меньшевиками. Именно в это время, после провала большевистского подполья и сразу после Февральской революции, Ольга Ревзина возглавляет стачечный комитет и якобы становится заметной фигурой среди большевиков этого важнейшего и довольно крупного города Южной Украины. Но в 1938 году, рассказывая о тех событиях, она в очередной раз обескураживает следователя своим признанием – на этот раз в собственной «политической безграмотности».
Когда на допросе ее спрашивают о причинах выхода из партии большевиков, Елена Константиновна Феррари сообщает, что совершила это именно по указанной выше причине – по безграмотности. Цель такого манифеста собственной скромности понять нетрудно: «Была глупа, необразованна, не понимала, кто на самом деле сделал революцию и ведет страну к победе». Но вот что интересно: в 1919 году, отвечая на тот же вопрос, Ревзина привела совершенно другую причину – большевики отказались отправить ее на фронт («партия не отпустила»)[34].
Вряд ли она – тогда восемнадцатилетняя девушка, вспыльчивая и энергичная, требовала у товарищей по партии дать ей в руки винтовку, чтобы воевать с немцами и австрияками. Можно предположить, что «большевики-разоруженцы» отказали ей в отправке на фронт, куда товарищи по борьбе выезжали совершенно с иной миссией: для разложения солдат воюющей Русской армии. И правильно, думается, отказали. Трудно представить, каким образом могла их разложить она – тонкая, стройная, миниатюрная еврейка с огромными глазами, и чем для нее самой это могло кончиться. А если так, то логику дальнейших событий можно попробовать смоделировать. Ольге отказывают (неважно, по каким причинам), она – яркая, амбициозная, молодая и горячая, обижается на ячейку в частности и на всю партию в целом и начинает искать тех, кто отнесется к ее решимости биться на любых фронтах «за правое дело» с бо́льшим пониманием. Благо таких партий, союзов, организаций в то время в Екатеринославе было пруд пруди. Но все же… «политическая безграмотность» для члена городского совета образца 1917 года – это звучит странно. Все-таки кто она – Люся Ревзина: полуподросток-неофит или опытный подпольщик-пропагандист? Озадачен и следователь:
«– Вы были в 1916–1917 годах на руководящей партийной работе?
– Да, в 1916-м я была членом подпольного комитета большевиков (до Февральской революции), а после… в 1917 году была секретарем партийного комитета городского района г. Екатеринослава… Я была руководителем марксистских курсов, кружка в Екатеринославе – у нас на квартире в 1916–1917 годах. Там мы изучали Эрфуртскую программу»[35].
НАША СПРАВКА
Эрфуртская программа – первая и единственная программа Социал-демократической партии Германии, написанная с марксистских позиций (теоретическая часть – Карлом Каутским, практическая часть – Эдуардом Бернштейном). Принята в 1891 году на съезде в Эрфурте. Труды Фридриха Энгельса оказали на теоретическую часть программы решающее влияние, поэтому в ней говорилось о закономерности превращения частной собственности на средства производства в социалистическую, а главной целью партии называлось руководство пролетариатом во время захвата политической власти, но сам же Энгельс (а позже и Владимир Ленин) критиковал практические выводы за то, что не ставилась задача борьбы за демократическую республику и установление диктатуры пролетариата.
Принятие этого документа было важным этапом в развитии немецкой социал-демократии, свидетельством укрепления в ней марксистских идей. Однако в 1921 году Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провозгласила отход от марксизма, заменив Эрфуртскую программу на Гёрлицком съезде новой – оппортунистической программой.
Итак, Ольга Федоровна еще раз подтвердила не только факт предоставления их с братом квартиры для нужд марксистского кружка в 1916–1917 годах, но упомянула и о своем руководстве этим кружком. Более того, она вела занятия по разъяснению менее образованным (и в общем смысле, и в марксистском) слушателям этого кружка не самой простой для понимания Эрфуртской программы. Той самой, изучив которую будущий Железный Феликс якобы «убил в себе Бога» и из истового католика превратился в правоверного большевика[36]. Но тогда уж, наверное, для того, чтобы такую программу преподавать, надо самому в ней разбираться? А значит, заявление о выходе из партии по причине политической неграмотности звучит как ложь. Во всяком случае, с точки зрения следователя.
Дальнейшая официальная биография будущих разведчиков – Владимира и Ольги – гладкая, лишенная малейших шероховатостей, напоминает текст школьного учебника «История СССР» для девятого-десятого классов: «В мае 1917-го Владимир Ревзин под влиянием заводских товарищей, увлекшихся идеями анархистов, вышел из РСДРП. Он продолжал сражаться против деникинцев (курсив мой. – А. К.) вначале как рядовой боец, а затем как командир взвода городского отряда Красной гвардии»[37].
В мае 1917 года будущий создатель Добровольческой армии и главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Антон Иванович Деникин служил начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего Русской армией и находился в Петрограде. После чего, в июне того же 1917 года, был назначен командующим армиями Западного фронта и воевал не с отрядом анархистов из Екатеринослава, а с армией кайзера. Анархисты, как, впрочем, и представители остальных антиправительственных движений, прежде всего большевики, как могли этой войне мешали, пытаясь распропагандировать солдат Русской армии.
Сам Владимир Ревзин рассказывал о событиях первой половины 1917 года несколько иначе и, конечно, не о каких «деникинцах» не упоминал. Как обычно, нельзя забывать, что он описывал события, на тот момент десятилетней давности, в максимально выгодном для себя ключе, руководствуясь текущей политической обстановкой: «Начало революции застало меня вполне подготовленным революционером. Я активно выступал в войсках и на митингах. Сестра была выбрана секретарем городской организации, которая была на нашей квартире. Кроме того, сестра выполняла обязанности секретаря “Звезды” (орган Екатеринбургской организации большевиков).
Началась… <неразборчиво> выборов в Украинскую раду и Учредительное собрание. Я считал, что мы должны заявить, что мы думаем об Учредительном собрании и с оружием отстаивать власть Советов. В этом я считал правильным… <неразборчиво> Екатеринбургской организации анархистов. В Комитете мы очень много спорили. Я с этой… <неразборчиво> выступал на митингах. Считал, что организация [большевиков] начала проявлять оппортунистический уклон, и вышел из нее 4 апреля 1917 года. На этом заседании вышли еще несколько человек. Это было очень тяжело, и я уехал на Урал к отцу. Вернулся летом и вел с анархистами агитацию против Учредительного собрания, и организовал боевую дружину, с которой и выступил против петлюровцев»[38].
Сестра Владимира в «Автобиографической записке» от 27 мая 1935 года вспоминала собственный трудовой и партийный путь следующим образом: «С января 1917 была членом подпольного комитета (завода, района, города? – неясно. – А. К.), после Февральской революции была выбрана делегатом на парт. конференцию Приднепровья, затем секретарем городского партийного комитета. Работала тогда на Брянском заводе /снарядный цех/. В мае была назначена техническим секретарем парт. газеты “Звезда”. Месяц спустя вышла по своей инициативе из партии, путаясь в политических вопросах (подчеркнуто в документе. – А. К.). Перешла на машиностроительный завод Южный труд пом. литейщика, затем на токарный станок /в снарядном цехе/. Была выбрана членом завкома и председателем стачечного комитета, объединяющего 5 мелких металлургических заводов»[39].
Самое интересное в этом фрагменте, конечно, упоминание о газете. Учитывая, что в будущем Люся Ревзина много сил и энергии посвятит литературной деятельности, остановимся подробнее на ее начале. Первый номер газеты «Звезда» вышел 4 (17) апреля 1917 года, а в мае того же года Ольга стала техническим секретарем ее редакции, то есть работала в ней почти с самого начала издания этого «органа Екатеринославского комитета РСДРП». Редактором «Звезды» была хорошо знакомая нам Серафима Ильинична Гопнер, а ее замом – человек, оставивший воспоминания об «Абраме»: Моисей Ефимович Равич-Черкасский. Либо это одно из многих совпадений в жизни семьи Ревзиных, либо руководство «Звезды» протежировало «юношам» из фотосалона Штейна и «Абрам» действительно мог быть Ревзиным. В любом случае короткий период работы в газете представляется очень важным в биографии «Красной Феррари».
Должность, которую занимала Ольга Ревзина в «Звезде», была скромна, но необходима. Это тот малозаметный, но ответственный пост, на котором многое зависело от человека: остаться навсегда техническим «винтиком» или проявить себя так, чтобы начальство заметило и, возвышаясь, утянуло за собой ввысь, в карьерные голубые дали. Рискнем даже предположить, что именно с этого момента Ольга Федоровна начала постепенно, поначалу почти незаметно, отдаляться от своего старшего брата, который до сих пор во многом добросовестно заменял ей отца. Тем более что как раз в это время сам Владимир к отцу и уехал. Начиная едва ли не с возвращения Люси из Швейцарии в 1909 году, брат оберегал и учил сестру, вел, тащил ее за собой. Спрашивал ли он при этом, нравится или нет выбранный им для нее путь? Или и так было понятно, что девочка, растущая вместе с братом, полностью разделяет его увлечения и интересы? Кто знает… В любом случае, получается, что отец, о котором никто из них ни разу не сказал худого слова, даже если и был рядом, что случалось нечасто, оказывал на жизнь девушки явно меньшее влияние, чем брат. Более того: сегодня мы можем сказать, что еще многие годы Ольга полностью не освободится от опеки Владимира, а потом, до самой смерти, будет сильно к нему привязана.
Теперь мы примерно знаем, как Люся Ревзина превратилась в «Красную Феррари», и более или менее представляем, почему это произошло. Но мы никогда не узнаем, кем бы стала, кем могла бы стать эта женщина, если бы не ее старший брат, – выбравший однажды путь революционера, свернувший на одной из его развилок на тропинку большевиков, ушедший вскоре неверной дорогой анархистов, снова вернувшийся к большевикам, ставший разведчиком, уволившийся и снова принятый на службу, и снова уволенный, и снова, и снова… Значительную часть своей жизни Ольга Ревзина будет стараться тщательно копировать все изгибы судьбы старшего брата, следуя за ним как привязанная, идя «вторым номером». Ведомая Владимиром, она совершит несколько попыток обогнать его в карьерном росте, стать успешнее и счастливее, чем он, но опередить его сумеет только однажды – в смерти. Пока этот момент не настал, в частностях, в деталях своей биографии и прежде всего в выборе новых, временных или относительно постоянных покровителей она как женщина и как человек будет пытаться действовать в одиночку и самостоятельно. Иногда ей это даже будет удаваться. Хотя бы время от времени. И первый шанс на то, чтобы начать действовать, как Ольга Федоровна Ревзина, а не как Люся – младшая сестра Владимира, она получила, видимо, как раз став сотрудником газеты «Звезда», работая отдельно от брата, самостоятельно производя впечатление на своих товарищей и начальников.
Владимир Ревзин в это время вышел из РСДРП(б) и, вернувшись летом с Урала, вступил в отряд анархистов (таким образом, первый партийный стаж Владимира Федоровича составил всего около девяти месяцев), якобы «воевавших против деникинцев». Воевать он мог, но против кого на самом деле в то время сражался брат Люси – большой вопрос.
Весной 1917 года властью на Украине формально считалось общероссийское Временное правительство, представленное в Киеве Губернским комиссариатом и Центральной радой – украинским парламентом. К маю стало понятно, что на южных окраинах империи зреет мощное национальное движение, ставящее целью появление украинской государственности. В Киеве прошла целая череда съездов (военный, крестьянский, рабочий, кооперативный), требовавших национально-территориальной автономии вплоть до передачи Украине всего Черноморского флота и даже части Балтийского. Однако вплоть до начала июля никаких крупных вооруженных выступлений против центральной власти, против Петрограда не произошло. До осени 1917 года, до победы большевиков в столице России, никаких «деникинцев», никакой Гражданской войны на Украине не было – «велик… и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» еще не настал. Германская армия из последних сил сдерживалась на западных границах империи войсками русского Западного фронта под командованием того самого генерала Антона Деникина и Юго-Западного – генералов (последовательно) Алексея Брусилова и Алексея Гутора. Сдерживалась, несмотря на всю разлагающую работу большевиков. Самая страшная – братоубийственная война была еще впереди. Но Люсе Ревзиной было не страшно. Брат вернулся, с ним ее, помимо родственных уз, объединяли не менее крепкие для тех времен связи идеологические.
И не только с братом.
Глава третья
Сын полка и товарищ барышня
Юрий Хованский «К анархии». 1918 год[40]
- Моя душа в священном пламени,
- Святой восторг сдержать нет сил —
- На распростертом черном знамени
- Народ надежды начертил:
- От старых дней – одни пожарища
- Остались в смраде и золе…
- Вперед, друзья! Вперед, товарищи!
- К свободе! К раю на земле!
В 1917 году Ольге Ревзиной исполнилось 18 лет – возраст совершеннолетия в нашем современном понимании. Понятно, что в те далекие и тяжелые времена взрослели много раньше. Особенно если речь шла о подростках вроде Люси и Владимира, вынужденных сталкиваться с трудностями жизни и необходимостью зарабатывать на кусок хлеба самостоятельно. И все же 1917-й – год особый для нашей героини именно в личном отношении. Решающий, даже помимо всех его революций, кончающихся и начинающихся войн, смен мест жительства, арестов и освобождений. Это год вступления Люси Ревзиной в по-настоящему взрослую жизнь, ибо как раз в 1917-м она познакомилась со своим первым и, судя по всему, единственным мужем.
Уроженец Варшавы Георгий Григорьевич Голубовский попал в родной для Ольги Екатеринослав крайне необычным путем. Родившийся, по данным 1919 года[41], в 1891-м, а по делу 1938 года[42] – в 1893-м, он, по неизвестной причине, в двенадцатилетнем возрасте стал воспитанником прославленной воинской части Русской императорской армии – лейб-гвардии Кексгольмского полка. Сыновья полков – отнюдь не новшество Великой Отечественной. Практика усыновления детей-сирот существовала у гвардейцев-гренадеров как минимум с 1878 года. Тогда, в самом конце Русско-турецкой войны, кексгольмцы подобрали у города Эдирне оставшуюся без родителей девочку-турчанку по имени Айше. Она стала дочерью полка, крестилась и вошла в историю как Мария Константиновна Кексгольмская[43]. Каким образом сыном полка оказался Георгий Голубовский, остается неизвестным, но он точно не был сиротой: его отец – польский лесник Григорий Виссарионович Голубовский оставался рядом с сыном до рокового 1938 года[44]. Мать Георгия умерла то ли при родах, то ли вскоре после них (не выжили еще девять детей, родившихся ранее), но у него имелась еще и старшая сестра Александра.
Тем не менее, прожив в части около восьми лет и получив там образование (в одной из анкет он обозначил его как «домашнее»[45]), двадцатилетний воспитанник лейб-гвардейцев сбежал не только из полка, но и из Варшавы, из Российской империи, вообще из Европы. По словам самого Георгия, он скрылся таким образом из-под ареста, куда попал после раскрытия в полку подпольной революционной организации, к запрещенной деятельности которой он был непосредственно причастен. Так это было на самом деле или нет, все еще неизвестно. Вполне возможно, что обстоятельства заключения под стражу воспитанника гвардейцев выглядели не столь романтично. В той же анкете Голубовский указывал, что числился в полку «до начала Первой мировой войны». Формулировка неоднозначная, она может сдвинуть дату побега из Варшавы с 1911-го на 1913-й или даже 1914 год, а это, в свою очередь, наводит на мысли о дезертирстве в преддверии надвигающейся войны. Может быть, рано пробудившееся революционное сознание не позволило Георгию, примкнувшему к «разоруженцам», участвовать в империалистической бойне? Всего лишь предположение.
В любом случае от Варшавы, Кексгольмского полка, от Российской империи, от Европы вообще Георгий постарался уйти как можно дальше и скоро оказался… в Америке, где «работал в разном качестве до 1917 года». Именно там, в Новом Свете, он стал анархистом и членом организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ)[4].
Этот мощный союз, возникший в 1905 году на базе соглашения между, прежде всего, американскими социалистами, анархистами и радикальными профсоюзными активистами, ко времени вступления в нее эмигранта из России насчитывал более 50 тысяч человек и был мощной силой в борьбе рабочих за свои права. В декларации, составленной при основании союза, указывалось: «Рабочий класс и класс эксплуататоров не имеют ничего общего. Не может быть никакого мира, пока голод и нужда имеют место для миллионов рабочих, в то время как немногочисленный эксплуататорский класс обладает всеми жизненными благами. Между этими двумя классами должна продолжаться борьба до тех пор, пока рабочие всего мира не организуются, овладеют средствами производства, ликвидируют систему наемного труда и станут жить в гармонии с Землей… Вместо консервативного девиза “справедливая поденная заработная плата за справедливую каждодневную работу” мы должны надписать на нашем баннере революционный лозунг “Ликвидация системы наемного труда”. Такова историческая миссия рабочего класса – покончить с капитализмом»[46].
Покончить с капитализмом многонациональный американский пролетариат надеялся не только в США. Декларации союза «Индустриальные рабочие мира» напрямую перекликались с лозунгами, под которыми тогда выступали пролетарии повсюду, в том числе и в России. И против начавшейся в Европе империалистической войны ИРМ выступал порой так же решительно, как социал-демократы Российской империи. Это при том, что Соединенные Штаты вступили в войну лишь в апреле 1917 года, а первые американские части попали на фронт полгода спустя, обеспечив окончательную победу Антанты, в которую, кстати говоря, не входили, оставаясь «союзником союзников». До этого времени антивоенное движение собственных рабочих мало беспокоило правительство пробритански ориентированного президента Вудро Вильсона, стремившегося к сохранению нейтралитета Соединенными Штатами, поскольку его вектор в общем и целом совпадал с направлением государственной политики. Лишь когда стало ясно, что отсидеться за океаном американцам не удастся, правительству пришлось взглянуть на антивоенные акции ИРМ под иным углом зрения. Чем ближе и неотвратимее становилось вступление Соединенных Штатов в боевые действия, тем больше это работало против союза и его активистов, которые автоматически становились врагами государственной политики. Начались репрессии. Членов ИРМ судили, сажали в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, просто линчевали. Быть активистом профсоюза в Америке внезапно оказалось опаснее, чем пролетарием в России, которую еще в феврале взорвала революция, и гражданин бывшей Российской империи Георгий Григорьевич Голубовский покинул ставшие столь опасными Соединенные Штаты. Если по той же причине он в ожидании катастрофы бежал в свое время из Польши, можно предполагать, что этот молодой человек обладал развитым чувством политического предвидения и сам в него, в этот свой дар, верил.
Через Сибирь Георгий Григорьевич с тремя единомышленниками – Чивиным, Волтуниным и Белковским[47] вернулся на родину, но не в Польшу – там шла война. Он перебрался сначала в Москву, а затем – в теплый и пока еще относительно сытый Екатеринослав. К слову сказать, двумя годами позже, в декабре 1919 года, американское правительство уже принудительно депортирует из США в Советскую Россию 249 бывших эмигрантов. Бо́льшая часть возвращенных родине на пароходе «Буфорд» граждан окажется соратниками Голубовского – анархистами и активистами ИРМ. Еще через три года советское правительство повторит этот же прием в отношении своих соотечественников, отправив осенью 1922-го в Германию два рейса со своими бывшими гражданами. Разница только в том, что американцы вернули на родину часто не имевших никакого образования революционеров, пролетариев, а порой и просто бандитов, а РСФСР выслала на Запад более 160 философов, писателей, представителей интеллигенции. Но и там, и там пассажирами были непримиримые враги существующего строя. И лидеры большевиков по опыту знали, насколько опасны именно образованные «борцы с режимом».
В родном городе Люси Ревзиной Георгий Голубовский оказался в июне 1917 года и, видимо, тогда же (ни он, ни она никогда не указывали точной даты) познакомился с будущей женой. Можно представить, каким притяжением для юной Люси обладал реэмигрант из Америки, где он боролся за права угнетенных рабочих, белых и негров. Ее память наверняка еще сохраняла картинки очаровательной старой Европы, которую она видела в детстве, и рассказы отца – об Америке, откуда вернулся этот молодой, но уже такой умудренный жизнью мужчина. Очень похоже, что на решение Люси окончательно отмежеваться от большевиков и примкнуть именно к анархистам оказали влияние не только постоянные диспуты между первыми и вторыми в квартирке при фотографии Штейна и на екатеринославских митингах, не только старший брат, мечущийся под воздействием идей и их провозвестников от одной группировки к другой, но и такой харизматичный и авторитетный муж. Он – голубоглазый красавец-блондин, вернувшийся из-за океана, откуда когда-то приехал отец Ревзиных, своими глазами видевший движение за свободу и участвовавший в нем, мог казаться ей настоящим героем, этаким анархистским принцем на белом коне, борющимся за права всех угнетенных. Он мог рассказать (и наверняка рассказывал) о битве мирового пролетариата с международной буржуазией с такими подробностями и комментариями, которые екатеринославской девушке Люсе и не снились. Его глазами она могла взглянуть на мир не из малороссийской глубинки, а с высот планетарного масштаба, и воспоминания о недавней, в общем-то, поездке в Швейцарию наверняка всколыхнулись в ней с новой силой – скоро мы увидим подтверждение этому. Если всё так, то неудивительно, что юная Ольга, только что начавшая восхождение по карьерной лестнице в партии большевиков, вдруг бросила всё и ушла под черные знамена анархистов. Ведь там был он – Жорж, как она на французский манер всю жизнь звала своего мужа. И она – резкая и волевая, решилась. Люся Ревзина покинула газету «Звезда», ушла от своей первой покровительницы Симы Гопнер и вступила в екатеринославский Клуб анархистов и в их боевую дружину[48].
Жорж был личным Люсиным завоеванием, ее гордостью, ее победой. Но в самом Екатеринославе популярность анархистов росла не по дням, а по часам и без американского гостя. Город, в котором позиции последователей Михаила Бакунина были традиционно сильны еще со времен первой русской революции, потрясали сообщения о событиях в Центральной России. Уже 13 марта в Москве было объявлено о создании Федерации анархических групп, в которую вошли около семидесяти человек, в основном представлявших радикально настроенную молодежь, а в Петроград после долгой эмиграции вернулся сам «отец русского анархизма» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Анархия, та самая, которая «мать порядка», непременно должна была навести этот долгожданный порядок в хаосе рушившегося государства. Вот только никто, включая самих анархистов, не знал, как этого добиться, каким загадочным образом это можно сделать. Никакого более или менее ясного, единого представления о способах борьбы за победу своих идей и, самое главное, о путях развития общества в случае этой победы у анархистов ни в обеих русских столицах, ни в далекой Малороссии как не было, так и не появилось. Даже единой партии анархистов, пусть и с несколькими фракциями, создать не удалось. Каждая группировка, клуб, ячейка тянули в свою сторону подобно представителям животного мира из известной басни. Направление анархо-синдикалистов предлагало возложить функции управления страной на некую общую федерацию профсоюзов (синдикатов – от чего и получило свое название). Но ее только предстояло создать, и опять никто не мог сказать, как это сделать. Те же синдикалисты ратовали за свободный захват фабрик и заводов рабочими – под своим руководством – и дальнейшее управление ими в «свободном» режиме. К этому, тогда довольно популярному и тяготеющему к общемировой тенденции развития рабочего движения течению принадлежал, по его собственному утверждению, «американец» Георгий Голубовский. В России оно оказывало значительное влияние на крупные группы организованных рабочих масс: например, на профсоюзы металлистов, булочников (и те и другие были сильны и многочисленны в Екатеринославе), портовых рабочих, некоторых других, но выглядело беспомощно и неавторитетно за пределами больших городов. Крестьян идеи синдикалистов не увлекали, они остались им непонятны и неинтересны, потому что не содержали перспектив «светлого будущего для пахаря», а Россия в то время была преимущественно сельской, аграрной страной.
В свою очередь, анархисты-коммунисты (или анархо-коммунисты) призывали к немедленной социальной революции, к бескомпромиссному и скорейшему свержению Временного правительства, срочному прекращению войны, а затем к активной работе в создаваемых Советах рабочих и солдатских депутатов на базе всех партий, участвующих в революции. Во многом близкие по формулировкам к большевикам, но не желающие присоединяться к их партии анархисты-коммунисты своей риторикой притягивали к себе часть сторонников Ленина. По этой причине они, еще до октябрьского переворота, сами себя поставили в фактическую и весьма опасную оппозицию к будущей правящей партии. А после того как большевики и эсеры взяли власть и не предусмотрели в своей модели государственного устройства места для анархии, анархистам-коммунистам поневоле пришлось встать перед серьезным выбором: анархисты они все-таки или коммунисты?
Анархисты-индивидуалисты, в соответствии со своим названием, наоборот, отмежевывались от всех политических оппонентов и потенциальных попутчиков, категорически отказывались от вхождения в Советы, которые явно становились основой новой системы управления страной. Они отрицали любую власть вообще, и нередко такие лозунги становились идеологическим прикрытием для банальных бандитов, которых – вооруженных, голодных и наглых, бегущих с фронта, с каторги, из ссылки – расплодилось в гибнущей стране невероятное количество.
«Расправа чувствовалась в воздухе, – очень точно охарактеризовал политическую обстановку тех дней участник революционных событий Анатолий Горелик пять лет спустя. – Чувствовалось нечто новое, неслыханное… Трудящиеся требовали свое и часто сами отбирали…
Никто не подчинялся и все приказывали.
В это время движением Российской Революции еще никто не руководил.
Но вот из заграницы начали приезжать массы социалистов и анархистов, возвращались в Европейскую Россию ссыльные и каторжане и в массы полетели целые тучи криков, лозунгов, обещаний и предостережений.
Массы отшатнулись от вчерашних “вождей”. Но “долой королей” (и “да здравствует король!”). И массы начали искать себе новых “вождей”.
Анархисты и большевики начали овладевать движением и задавать тон»[49].
Для жителей Екатеринослава и окрестностей самым сложным испытанием оказалось верно уловить этот тон – хотя бы, чтобы выжить. Вроде бы бурный 1917 год на деле вышел лишь «временно» неустойчивым, как и правительство, возглавлявшее страну почти до его конца. Уже в 1918-м ситуация изменилась к худшему настолько, что стало казаться, что год назад царила эпоха стабильности и спокойствия. В 1917-м Украина только накапливала критическую массу для взрыва Гражданской войны. Накапливала идеи, оружие, злобу и людей – решительных, безжалостных, голодных, – способных превратить злобу в злодейство, а голод в грабеж с оружием в руках во имя каких-нибудь, тех или иных, революционных или контрреволюционных – любых – идей. Полнился такими людьми и такими идеями и Екатеринослав.
Подобно тому как приехал в город в поисках лучшей доли «американец» Жорж Голубовский, сюда приезжали и многие другие – коммунисты, эсеры, анархисты. Особое место среди них занимал, пожалуй, только один выдающийся персонаж. Человек, который вернулся сюда, потому что здесь, рядом, в Гуляйполе, была его родина и потому что именно здесь он был уже полностью готов к тому, чтобы не ловить чужой тон, а самому выступить в роли вождя масс, в роли «батьки», – Махно. Именно он стал одним из тех, кто дирижировал необыкновенной кровавой симфонией Гражданской войны на Украине в 1917–1920 годах.
НАША СПРАВКА
Нестор Иванович Махно (1888, село Гуляйполе, Екатеринославская губерния – 1934, Париж). Стал известен как «батька» Махно. Революционер-анархист, практик анархизма. С 1906 года был членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов», действовавшей под Екатеринославом, участвовал в террористических актах и «экспроприациях» богачей. Неоднократно судим.
В 1917 году, после Февральской революции, освобожден из Бутырской тюрьмы в Москве. Вернулся на родину, создал в Гуляйполе Комитет спасения революции, сформировав из членов анархистской организации боевую дружину «Черная гвардия». Авторитет анархистов и лично Махно укрепила проведенная им в сентябре того же года конфискация помещичьих земель. Пользовался значительной популярностью среди крестьян Южной Украины. С приходом в эти края немецких войск «Черная гвардия» прекратила свое существование, а сам Махно отправился в поездку по России, где встречался с Владимиром Лениным.
Осенью 1918 года вернулся на родину и возглавил там анархистское движение. Во время Гражданской войны периодически входил в союз с красными, помогая им в войне против армий Антона Деникина и Петра Врангеля, но в целом придерживался линии на создание особой – «повстанческой» армии, пытался основать «Повстанческую республику» в Южной Украине. В 1920–1921 годах окончательно разошелся во взглядах с советским правительством, был признан им «бандитом», и к концу лета 1921 года армия Махно была разгромлена. Бежал за границу, в эмиграции жил в тяжелых условиях. Умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза. В советской литературе и искусстве, как правило, его образ был гротескно-отрицательным.
Много позже, уже оказавшись за границей, Нестор Махно написал прелюбопытные воспоминания о своей жизни, о революции и о войне всех против всех. И здесь снова, совсем как в воспоминаниях Моисея Равич-Черкасского, мы сталкиваемся с зарисовкой мимолетной исторической фигуры, на этот раз девушки, по описанию очень похожей на нашу героиню. В главе о событиях лета 1917 года (если только он не ошибся, восстанавливая в эмиграции хронологию по памяти) Нестор Махно рассказал о своем посещении Екатеринослава: «…я возвратился опять в киоск федерации, подобрал ряд брошюр себе для Гуляйполя и хотел было уходить в бюро по созыву съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда, как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа “Нила”. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла.
Товарищ Молчанский спросил меня: “Ты с нею знаком? Это – славный и энергичный товарищ”. Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг, но она мне ответила: “Если не будете выступать, то вы мне не нужны там”. Я обещал ей, что выступлю.
Тогда она взяла меня за руку, и мы ускорили шаги по дороге в Зимний театр. Этот юный и милейший товарищ рассказала мне по дороге, что она всего три года как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около двух лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям. Она их полюбила и во имя их работает. До июля она выступала перед рабочими, но боялась выступить против врагов анархизма – социал-демократов. В июле на одном из митингов в сквере она выступала против социал-демократа “Нила”. Он ее хорошо отстегал. “Теперь я, – говорила она, – собралась с силами попробовать вторично выступить против этого ‘Нила’. Это – агитаторская звезда в центре социал-демократов”.
На митинге я выступил против знаменитого “Нила” под псевдонимом “Скромный” (мой псевдоним с каторги). Говорил скверно, хотя, по уверению товарища, “это было очень удачно, только что волновался”.
Мой же товарищ, юный и энергичный, завоевала весь зал своим нежным, но сильным ораторским голосом: аудитория была восхищена этим голосом, и мертвая тишина, когда слушали то, что она говорила, сменялась бурными рукоплесканиями и громовыми криками: “Правильно, правильно, товарищ!”
Товарищ говорила недолго, 43 минуты, но настолько возбудила массу слушателей против положений, высказанных “Нилом”, что, когда последний вышел оппонировать всем против него выступавшим, зал закричал: “Неверно! Не забивайте нам головы неправдой. Правильно говорили нам анархисты. Вы говорите неправду…”
Когда мы возвращались с митинга, нас собралось уже несколько товарищей вместе. Наш юный товарищ говорила мне: “Вы знаете, товарищ ‘Скромный’, что этот ‘Нил’ своим влиянием на рабочих до сих пор меня с ума сводил, и я задалась целью во что бы то ни стало убить его влияние на рабочих. Меня стесняло на этом пути лишь одно: я слишком молода. Рабочие относятся к старым товарищам более доверчиво. Боюсь, что это мне помешает выполнить свой долг перед рабочими…”
Кроме здоровья и лучших успехов ей в деле революционного анархизма, я ничего больше пожелать не мог. Мы распрощались и разошлись, обещая на другой день встретиться и поговорить о Гуляйполе, о котором она слыхала много хорошего»[50].
Могла ли «товарищ барышня» оказаться Ольгой Федоровной Ревзиной? Теоретически – да, могла. Почему бы нет? Именно таким, как его описал Махно, предстает образ нашей героини из позднейших воспоминаний о ней, из ее писем, из документов, даже из ее стихов с поправкой на то, что в 1917 году она была «слишком молода» (Ревзиной в это время 18 лет). «Славный, энергичный товарищ» – лучше и не скажешь. Другое дело, что не всё стыкуется в этой истории, если принять как версию, что ее героиней была именно Люся, хронологически. Строго говоря, существует всего две причины, позволяющие подвергнуть сомнению то, что вождь анархистов Украины встретился летом 1917 года именно с Ольгой Ревзиной. Во-первых, сам Махно ни разу не упоминает не то что ее фамилии, но даже имени. Во-вторых, и это, возможно, даже более весомый довод, в своей анкете много лет спустя она написала, что вышла из партии большевиков осенью 1917-го, а не летом. Значит, случись ее встреча с Махно летом, она агитировала бы не «за», а «против» него – они должны были быть по разные стороны баррикад. Но стоит еще раз повторить: далеко не всему в сохранившихся документах можно верить, а указанное в ее анкете время выхода из РСДРП(б) – несколько странная дата.
Мы помним, что брат Ольги – Владимир Ревзин расстался с большевиками 4 апреля 1917 года, став теперь убежденным анархистом. После этого судьбоносного для всей их семьи решения Владимир на время покинул малую родину и уехал к отцу на Урал[51]. Вернувшись тем же летом, он, наверное, встретился и с женихом сестры – тоже убежденным анархистом, только что прибывшим из эмиграции. Эти двое молодых мужчин, которые были ей ближе всех остальных людей и которые оба были анархистами, неизбежно должны были оказать на Ольгу самое серьезное влияние. И все же она утверждала, что дотянула среди большевиков до осени и вышла из партии примерно в то самое время, когда коммунисты взяли власть. Это странно и само по себе, и тем более, что во всех задокументированных случаях – а до нас они дошли в основном в виде протоколов – она рассказывала это именно коммунистам, и ей было бы выгодно подавать себя как убежденную большевичку, только недолго и по нелепой случайности («не разобралась») заигрывавшую с анархистами. И тем не менее…
Еще одна причина, которая заставляет несколько усомниться в ее долгой и активной работе среди коммунистов Екатеринослава, уже называлась. Это почти полное отсутствие упоминаний о ней не только в жандармских и полицейских сводках, но и в воспоминаниях коллег-подпольщиков после событий Февральской революции. При наличии фантазии это можно списать на то, что они знали о разведывательной работе Ольги и стремились не привлекать к ней внимание, но, увы, это объяснение для дилетантов. Ольга Ревзина не раз меняла и имя, и фамилию, но в любом случае никто из подпольщиков не должен был знать о ее службе в разведке. Ни тогда, ни потом. Мемуары же бывшие революционеры оставляли во множестве, и даже если предположить, что в позднейших изданиях по каким-то причинам имя Ревзиной могло быть вычеркнуто, то в первых послереволюционных публикациях кто-нибудь да должен был вспомнить девушку с примечательной внешностью, хозяйку конспиративной квартиры, а затем представителя райкома партии большевиков в городском комитете и секретаря хорошо известной в городе газеты «Звезда». Но нет – мертвая тишина. Даже в неоднократно цитировавшемся здесь номере опубликованного на Украине в 1923 году сборника «Летопись революции: Журнал Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и Коммунистической партии (большевиков) Украины», полностью посвященного истории екатеринославского подполья, упоминание о Ревзиных встречается лишь пару раз – в известных нам воспоминаниях Серафимы Гопнер, относящихся к дореволюционному периоду, и в обоих случаях это связано с Владимиром, а не с Ольгой – секретарем, делегатом, сотрудником единственной большевистской газеты. Не странно ли?
А вот если принять как рабочую гипотезу чрезвычайно короткое «пребывание» Люси Ревзиной в рядах большевиков – не до октября, а до лета 1917 года, все встает на свои места. Все трое оказываются в одном месте – в Екатеринославе – и заняты примерно одним и тем же делом – агитацией в пользу анархистов. Потому и нет воспоминаний о их большевистской активности в тот период ни у кого из екатеринославских большевиков – не было этой активности. И жизнь для всех троих в очередной раз коренным образом изменилась только после октябрьских событий, хотя и в этот период их биографии становятся не намного яснее.
Ольга Ревзина: «В Красной гвардии в 1917 г., сестрой и бойцом»[52]; «…в отряде имени Бакунина в качестве сестры милосердия, затем [в качестве] рядовой»[53]; «в Октябрьской революции и в последующих боях, продолжавшихся в Днепропетровске до янв. 1918 г., принимала активное участие, сражаясь в рядах Красной Гвардии против юнкеров и гайдамаков. В январе – феврале 1918 г. принимала участие в формировании партизанских отрядов, отправлявшихся на юг (тут Ольга скромно умолчала об идеологической направленности этих отрядов. – А. К.). Весной поехала в Москву, сдала экстерном за 8 кл. гимназии, затем отправилась на Майкорский завод [к отцу] Пермской области, работала зав. Отделом внешкольного образования и преподавала русский язык на вечерних рабочих курсах»[54].
Владимир Ревзин: «Красногвардеец, командир взвода городского отряда Красной Гвардии в Екатеринославе (ноябрь 1917 – февраль 1918), организатор и командир партизанского отряда им. М. А. Бакунина, действовавшего в районе Криворожского бассейна и в Таврической губернии (февраль – май 1918)»[55]; «затем, при захвате власти в декабре 1917 года, а затем все время до 1920 года участвовал в Гражданской войне будучи командиром партизанских отрядов и командиром и комиссаром частей Красной армии – бригад и дивизии»[56].
Георгий Голубовский: «…в отряде Бакунина, в котором был членом [солдатского?] комитета»[57]; «с 1918 по 1923 на Украинском фронте»[58].
Если присмотреться внимательно к этим показаниям (а это именно показания, данные на следствиях разных лет, исключение только последняя цитата Ольги, взятая из ее анкеты 1935 года), возникает ощущение некоторого разнобоя в них и одновременно чего-то общего, объединяющего всех троих. С последним разобраться несложно. Владимир Ревзин и его сестра Ольга, которую теперь правильнее будет называть не Ревзиной, а Голубовской, и ее муж Георгий, при некотором противоречии в деталях, сходятся в одном. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года все они служили в партизанском отряде имени М. А. Бакунина. Причем Владимир Ревзин сам этот отряд и формировал, а затем им командовал (не путать с другим отрядом анархистов имени М. А. Бакунина, созданном в то же время, но в Москве). Ближайшие родственники Владимира – сестра и ее муж – находились вместе с ним в отряде, но на менее важных должностях. Впрочем, должность в партизанском отряде – понятие такое же аморфное, как и наши представления о партизанском движении на юге Украины во время Гражданской войны (да и не только там и не только тогда). Во многом разделение обязанностей между бойцами и командирами партизанских отрядов зависело от величины самого формирования. Понятно, что в крупных отрядах более или менее близко копировалась организационно-штатная структура отдельных воинских частей – от роты до дивизии. В маленьких же отрядах, численностью от нескольких человек до десятков бойцов («штыков» или «сабель», как тогда говорили, в зависимости от пешего или конного способа ведения боевых действий), командирам нередко приходилось выполнять обязанности рядовых бойцов – от несения караульной службы до ухода за лошадьми, просто потому, что больше это делать было некому. Женщина в партизанском отряде могла быть и стрелком, и связной, и поварихой, и санитаркой, и все тем же конюхом – война есть война.
Итак, Владимир Ревзин, который только в апреле 1917-го примкнул к анархистам, заявляет о своей службе в армии, точнее, в Красной гвардии – добровольных вооруженных отрядах рабочих и солдат, создаваемых РСДРП, а именно – большевиками. Кажется, что это звучит странно, но надо помнить, что в Красную гвардию тогда брали отнюдь не только большевиков, но и эсеров, и анархистов, и просто всех «сочувствующих». Красногвардейкой становится и его сестра, которая только что из партии большевиков вышла. Ее муж вообще предпочел умолчать о своих политических предпочтениях во время службы. Некоторую ясность в их политические если не убеждения, то предпочтения вносит само название вскоре созданного отряда – имени Бакунина.
НАША СПРАВКА
Михаил Александрович Бакунин (1814, село Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии – 1876, Берн, Швейцария) – русский мыслитель и революционер, один из теоретиков анархизма и народничества. Масон. Стоял у истоков анархо-социализма (социального анархизма).
В своей книге «Бог и государство» Бакунин писал: «Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей – божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной». Бакунин отвергал любую форму иерархической власти, государство вообще, как монархическое, так и республиканское его устройство. Он не признавал идею любого привилегированного положения или класса, считая социальное и экономическое неравенство, проистекающее из классовой системы, несовместимым с принципами индивидуальной свободы. Бакунин утверждал, что капитализм и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.
По мысли Бакунина, главная задача социальной революции – разрушение исторических централизованных государств и замена их свободной, не признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому принципу.
Социалистическая модель Бакунина получила название «анархо-коллективизм». Как и в марксизме, основными движущими силами революции в ней считались рабочие и крестьяне, главной опорой социальных преобразований – их беднейшие слои. Им же на коллективных началах принадлежали средства производства.
При этом Бакунин, в отличие от Маркса, полагал, что установление диктатуры пролетариата создаст угрозу всему делу социальной революции, поскольку явится предпосылкой возврата к авторитаризму: «Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам царь».
Главный способ пропаганды, по Бакунину, – постоянные мелкие восстания и бунты, так называемая «пропаганда фактами».
Нетрудно догадаться, что именем такого человека – одного из основоположников анархизма, партизанский отряд в таврических степях вряд ли назвали бы большевики, хотя, конечно, могли. Одного того, что это революционер, могло оказаться для них достаточно. Взгляды Бакунина пока еще воспринимались как часть общего революционного процесса, происходящего от декабристов и проходящего до большевиков через Герцена, народников и анархистов. Проще говоря, «главное, что против буржуев». Но именно анархистская вольница могла написать имя неистового пассионария на своем черном знамени без всяких сомнений и с особой гордостью. И к Красной гвардии Екатеринослава Бакунин имел значительно меньшее отношение, чем к буйной «республике» все того же «батьки» Махно со столицей в Гуляйполе.
Что представлял или, точнее, что мог представлять (поскольку почти никаких данных о нем найти пока не удалось) собой отряд имени Бакунина? Украинский историк анархизма Анатолий Викторович Дубовик осторожно оценивает его численность в 50—200 штыков и замечает, что одно из немногочисленных упоминаний об этом партизанском формировании содержится в книге Андрея Леонидовича Никитина «Орден российских тамплиеров». В ней опубликована часть протокола допроса бывшего бойца этого отряда Михаила Васильевича Стрельцова: «Весной 1918 г. после Брестского мира в апреле уехал на Украину. Был в подрывной команде отряда Петренко Красной Армии, а потом в анархическом отряде Воли[на] там же. В начале мая 1918 г. уехал оттуда обратно в Москву»[59].
Фамилия командира отряда приведена в спорном варианте – то ли Воля, то ли Волин. По мнению Анатолия Дубовика, это связано с тем, что все историки анархизма знают (или хотя бы слышали) фамилию Волин – под этим псевдонимом известен теоретик анархо-синдикализма Всеволод Михайлович Эйхенбаум, но он, хотя и тесно общался с Нестором Махно, никогда не командовал партизанским отрядом[60]. А вот Владимир Федорович Ревзин, как мы уже знаем, в какой-то момент отказался от своих фамилии, имени и отчества и стал фигурировать как Михаил Яковлевич Воль, но в историю вошел с более поздней версией псевдонима: Владимир Федорович Воля.
Люся Голубовская тоже оставила небольшие воспоминания об отряде, сделав это в замечательно необычной форме. В изданном в 1923 году в Берлине сборнике ее стихов есть одно, несколько неуклюжее, стихотворение под названием «Эшелоны», с посвящением: «Памяти Бакунинского отряда». Стихотворение странное, с характерными для его автора ассонансами и привычной для наших героев апелляцией к коммунистической теме:
- Песен слыхали степи немало,
- Но еще не слыхали такой:
- – С «Интернационалом»
- Воспрянет род людской…
«Интернационал» тоже был общим достоянием: гимном не только коммунистов, но и социалистов, и анархистов, всех революционных рабочих, а его автор – Эжен Потье, по некоторым данным, был анархистом. Но кем все-таки была она – Люся Ревзина, Ольга Голубовская, Елена Феррари? Анархисткой? Большевичкой? Авантюристкой? Возможно, именно тогда – в 1918 году – она сама еще могла точно выбрать хотя бы один из предложенных вариантов. В октябре ей исполнилось 19 лет, и она только начинала верить в то, что она не женщина, а борец за светлое будущее человечества, полноправный боец партизанского отряда имени Бакунина, которым командовал ее героический брат и среди комиссаров которого ее не менее героический муж-«американец». Отрезвление придет нескоро. А начнется – с первыми взрывами, боями, перевязками раненых, искалеченных – с войной. И тогда Люсе Голубовской придется задать себе другие вопросы.
- …Рельсы дрогнули: Кто? Откуда?
- Стонут степи: зачем и куда?
- Под откосами трупов груды
- И разбитые поезда…
Глава четвертая
Семья военкома
Эдуард Багрицкий «Разговор с комсомольцем Дементьевым». 1927 год
- На плацу, открытом
- С четырех сторон,
- Бубном и копытом
- Дрогнул эскадрон;
- Вот и закачались мы
- В прозелень травы,
- Я – военспецом,
- Военкомом – вы…
1918-й и первая половина 1919 года – очередное смутное время в истории нашей страны и еще одна большая лакуна в биографии Люси Голубовской и мужчин, с которыми она шла рука об руку, – брата и мужа. Собирая разрозненные сведения о их перемещениях в этот период, кажется, что рассматриваешь карту боевых действий времен Гражданской войны. Карта потертая, неясная, на местах сгибов с такими дырами, что некоторые сведения выпадают без всякой надежды быть когда-либо обнаруженными. Вся картина событий размыта и окутана клочьями такого информационного тумана, что не видно границ, расплываются названия городов и сел, обрываются дороги, и вместо бумаги, которая должна была внести ясность, на столе остается ветхое и готовое вот-вот совсем исчезнуть свидетельство будто бы и несуществовавшего мира. Даже важнейшие краски, по которым можно было определить, где «свои», а где «чужие», от времени давно выцвели. Там вроде бы красные знамена; тут, кажется, черные; а есть еще красно-зеленые, черно-красные и зелено-белые. Черно-белых только не сыскать – неоднозначное было время. Да что там: где протянулась полоска белой армии, а где изгибается дугой позиция Красной – и этого порой не разобрать. Сказанное и написанное потом – чаще лукаво, чем правдиво, но иных свидетельств обычно просто нет.
Партизанский отряд имени М. А. Бакунина канул в прореху на карте Гражданской войны почти бесследно. Одно из немногих свидетельств его существования – стихотворение Елены Феррари, и в нем обозначена позиция автора. Он, а точнее, она – наблюдатель. В нем нет переживаний бойца, вспоминающего схватки Гражданской, нет ощущений «изнутри», которые умели мастерски передавать даже те, кто в схватках не участвовал и ощущений этих на самом деле не испытывал. В нем взгляд со стороны, но почему так – неизвестно. Может быть, Люся Голубовская не принимала участия в боях? Или сам отряд не снискал особой воинской славы? Увы, за исключением фразы об «активной деятельности» бакунинцев в районе Криворожского бассейна, появившейся почти 100 лет спустя после самой этой деятельности – в 2015 году, реальных свидетельств о боевых действиях этого партизанского отряда немного. Тем не менее мы знаем только, что он действительно воевал: Владимир Воля был ранен и контужен, его больные «в результате ранения» ноги указывались даже как особая примета при описании внешности[61]. Почти до самого конца Владимира Федоровича сопровождали на службе однополчане, подтверждавшие мужество и героизм своего командира, проявленные в боях против немцев и гайдамаков за станцию Долинскую в 1918 году[62].
Обладая столь скудной информацией, мы можем предполагать развитие событий, исходя из известной расстановки сил в тот период. В ноябре – декабре Екатеринослав, ставший на время Сичеславом, входил в состав полуэфемерной Украинской Народной Республики, признанной большевиками по условиям Брестского мира, но формально противостоявшей РСФСР. Наступление нового года совпало с приходом в Екатеринослав красных, и возможно, это обстоятельство и побудило Владимира Волю (или еще Михаила Яковлевича Воля) уйти с родственниками и единомышленниками из города во главе собственного анархистского отряда. Сам Воля в качестве начала деятельности отряда называл февраль, а финалом стал апрель того же 1918 года. Соответственно, вопреки популярной версии, Владимир и Ольга никак не могли быть арестованы вошедшими в Екатеринослав чекистами по обвинению в связи с анархистами и организации целой серии взрывов в городе, а заодно – в помощи немецким интервентам и отрядам гетмана Павла Петровича Скоропадского[63]. В том числе и потому, что интервенты и украинские националисты, которым якобы помогали Ревзины, вошли в город несколькими месяцами позже, как раз тогда, когда отряд Бакунина уже перестал существовать, а его командование оказалось так далеко от Украины, что в это трудно было бы поверить – если бы не родственные связи.
Бакунинский отряд исчез в апреле. Люся Голубовская отправилась в Москву сдавать экзамены за восьмой класс гимназии весной – логично предположить, что примерно тогда же. После чего уехала на Урал к отцу. И столь же правомерно будет считать, что в перемещениях по стране в столь опасное время ее сопровождали любимые мужчины: муж и брат. Подтверждением тому служат показания Люси, данные ею в ЧК, и записи в послужном списке Владимира Воли, сообщающие нам о том, что он в это время проходил службу в составе войск Урало-Оренбургского фронта, созданного для противостояния войскам атамана Александра Ильича Дутова на юго-восточном направлении в районах Заволжья и Южного Урала.
Фронт в понятиях Гражданской войны – высшее оперативно-стратегическое объединение войск Красной армии, то есть крупнейшая на каком-либо направлении группировка сил красных. В состав такого объединения обычно входили от двух до пяти действующих или находящихся в процессе формирования армий, соединения и части резерва, штабные и тыловые военные организации, а также партизанские отряды и бригады. Очень часто, особенно в условиях Поволжья, Урала и Сибири с их растянутыми коммуникациями, малой плотностью населения и сложными природными условиями, фронт не образовывал единой непрерывной линии обороны или наступления – картину, к которой мы привыкли по описаниям боев во время Первой мировой или Великой Отечественной войн. Недолго просуществовавший и переформированный летом 1918 года в 3-ю армию Урало-Оренбургский фронт как раз относился к тем войсковым объединениям, которые, прикрывая лишь ключевые коммуникации – железные дороги, реки, сухопутные пути, должны были не допустить наступления противника на Советскую республику со стороны оренбургских степей. Под ударом белых и взбунтовавшегося в мае 1918 года Чехословацкого корпуса, растянувшегося по Транссибу от Пензы до Владивостока, оказались промышленно развитые районы Урала. В случае удачного развития событий противнику открывался прямой путь к Волге и дальше – на Москву. Именно в районе действия этого фронта, точнее в полосе его обороны, находился Майкорский (Никитинский) металлургический завод, на котором работал отец Владимира и Ольги – Федор Ревзин, бывший к тому же, по нашим предположениям, специалистом подрывного дела. В очередных показаниях Ольги Федоровны эта неслучайность подтверждается: «В 1918 году, летом я уехала со своим мужем на Урал (завод Майкор), где муж и я работали. Я была заведующей внешкольного отделения, а он организовал сельскохозяйственную коммуну при Губисполкоме. По истечении года я уехала из Урала в город Харьков…»[64]
Заведующая внешкольным отделением и руководитель сельхозкоммуны… Похоже, что Люсе и Жоржу Голубовским хватило 1917 года, чтобы понять, что такое революция и к чему она приводит. Хватило трех месяцев в партизанском отряде в степях Украины, чтобы ощутить на себе, что такое Гражданская война: кровь, вонь, смерть. Романтика в таких условиях проходит быстро. Он – вернувшийся из Америки синдикалист, вряд ли ожидал такого бурного, страшного и неуправляемого разворота событий на родине. Она – девятнадцатилетняя молодая женщина, которая наконец-то осознала, как сильно ей повезло, когда большевики не пустили ее на фронт. Кажется, теперь Ольге Федоровне и самой не хотелось туда возвращаться. Работа с детьми, преподавание им русского языка, сельскохозяйственный кооператив (на анархо-синдикалистских принципах?) – их стремления напоминали скорее грезы пионеров Среднего Запада, чем идеи революционеров Западного Приуралья. И то, что новые мечты начали сбываться, Жоржа и Люсю вполне устраивало. Вот только логика войны их новых желаний никак не учитывала.
Что же касается главной в ту пору движущей силы этой необычной семьи – Владимира Воли, то в исследованиях наших дней его должность на Урале обозначена как «начальник подрывной команды штаба…»[65]. В его подлинных документах, фиксирующих служебные перемещения и сохранившихся в фондах Российского государственного военного архива, сформулировано иначе: «начальник формирования подрывных команд»[66]. Нетрудно заметить, что это две разные должности, разные виды службы, два разных образа жизни с неравным уровнем опасностей и наград. Начальник подрывных команд по сути своей есть диверсант, командир и наставник диверсантов, а следовательно, человек, который сам выходит на линию фронта или за нее и сам, хотя бы время от времени, участвует в каких-то подрывах, в диверсиях. Начальник формирования тех же самых команд – в современном понимании командир или, что еще ближе к истине, сотрудник военкомата, занимающийся подбором и комплектованием подразделений диверсантов и, скорее всего, служащий в тылу. Вполне подходящее место для обладающего боевым опытом, но недавно тяжелораненого Владимира Воли. Если же принять во внимание, что двое из троих членов семьи занимались сугубо мирными делами, а значит, находились достаточно далеко от района боевых действий, естественно будет предположить, что и реальное место службы бывшего командира Бакунинского отряда в тот период вряд ли было на переднем крае сражений с белогвардейцами. Когда же фронт был расформирован, а комплектование команд стало невозможным, Владимир Федорович таким же логичным образом закончил службу на Урале. Приказом наркома по военным и морским делам РСФСР (так в документе) товарища Льва Давидовича Троцкого[5] № 672 от 13 августа 1918 года он был назначен на должность военкома (опять!) «III округа 4-го Острогожского района Пограничной охраны»[67].
Острогожск – небольшой старинный город в Воронежской губернии, в верховьях Дона. Сегодня это трудно представить, но тогда по этим местам действительно проходила граница. Во второй половине 1918 года Острогожск был оккупирован немецкими войсками и включен в состав украинской (Второго гетманата Павла Скоропадского) Харьковской губернии под патронатом (вот уж поистине лучше слова не сыскать) Германии. Переехав сюда, на линию фронта, Воля на некоторое время оставил родственников на Урале, но одновременно указал им вектор дальнейшего перемещения по стране – в центр, в неуклонно становящуюся большевистской Россию, в Москву.
Для жизни в этой новой стране необходимо было еще раз хорошенько подумать и определиться со своими политическими взглядами, симпатиями, пристрастиями. Еще весной 1918 года у анархистов возникли серьезные разногласия с центральной властью, пока что формально придерживавшейся принципа многопартийности в государственном строительстве и управлении. По мере того как силы большевиков крепли, анархисты оказывались в состоянии все более острого идейного противостояния с ними, все глубже втягиваясь в борьбу за симпатии масс. Борьбу не настолько безнадежную, как это может показаться сегодня. Вклад сторонников учения Бакунина и Кропоткина в революцию 1917 года был огромен, а их влияние на рабочих, отчасти и на крестьян (на той же Украине) достигало заметного масштаба. Заметного настолько, что дальше большевики не могли мириться со столь опасной конкуренцией. С другой стороны, поведение множества поклонников «абсолютной свободы», в массе своей понимавших анархию как вседозволенность и безнаказанность, становилось смертельно опасным для обычных граждан, отталкивало от них и население, и даже потенциальных противников большевиков.
После переезда советского правительства в Москву весной 1918 года массы «чернознаменников» тоже покинули Северную столицу и фактически оккупировали лучшие из сохранившихся старых московских особняков. Более пятидесяти разрозненных анархистских групп, фракций, отрядов, банд – общей численностью более двух тысяч человек, вооруженных стрелковым оружием и располагавших артиллерией, заняли центр Москвы, по одной из версий даже вынудив руководство ВЧК подыскать себе новое помещение на Лубянской площади взамен изначально выбранного дворца на Поварской (возможно, дом на Поварской попросту оказался слишком маленьким для чекистов). Почти вся эта улица оказалась в распоряжении анархистов, и не только она. Их штаб разместился на Малой Дмитровке, 6, в здании бывшего купеческого клуба, который отныне назывался «Домом Анархии», а некоторые адреса, в которых обосновались сторонники неограниченной свободы, находились в опасной близости от жизненно важных учреждений, например от Госбанка[68]. Ситуация обострялась с каждым часом, а развязка наступила в ночь на 12 апреля.
Из заявления «Совета Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московского обл[астного] Президиума Моск[овского] Совета Рабочих Депутатов»:
«МОСКВА. РАЗОРУЖЕНИЕ АНАРХИСТОВ
Ко всем.
Население Москвы взволновано было за истекший день артиллерийской и ружейной стрельбой на улицах Москвы. Но еще больше население взволновано было за последние месяцы целым рядом непрекращавшихся налетов на отдельные дома и квартиры, на все усиливающееся количество ограблений и убийств, совершенных под флагом различных групп анархистов, отчасти входивших в Федерацию анархических групп, отчасти самостоятельных.
Несмотря на самую вызывающую и резкую идейную критику Советов и Советской власти на страницах анархических газет “АНАРХИЯ”, “ГОЛОС ТРУДА” и других, Московский Совет Рабочих Депутатов не предпринимал никаких мер против анархистов, питая доверие к идейной их части, надеясь, что эта идейная часть справится с той массой чисто уголовных и явно контрреволюционных элементов, которые укрывались под флагом московских групп анархистов… Уголовные преступники после целого ряда убийств и грабежей находили себе убежище в захваченных анархистами особняках. Не проходило дня без нескольких ограблений и убийств, совершенных под флагом анархизма. Особняки, реквизируемые анархистами, по уверениям их идейных вождей, для культурно-просветительских нужд, ограблялись; обстановка их и ценности продавались в частные руки и служили средствами для обогащения отдельных лиц, а отнюдь не для удовлетворения общественных потребностей, а сами особняки становились приютами для уголовных преступников.
Перед Советом и всем населением вырастала несомненная угроза: захваченные в разных частях города 25 особняков, вооруженные пулеметами, бомбами, бомбометами и винтовками, были гнездами, на которые могла опереться любая контрреволюция. Несмотря на уверения идейной части анархистов, что никаких выступлений против Советов они не допустят, угроза такого выступления была налицо и за последнее время все чаще выдвигалась отдельными группами анархистов. Совет Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московской области и Президиум Московского Совета Рабочих Депутатов стали перед необходимостью ликвидировать преступную авантюру, разоружить все группы анархистов. Неизбежность вооруженного столкновения и жертв сознавалась нами и оправдывалась тем, что дальнейшее промедление грозило ростом ежедневных жертв при ограблениях и анархических захватах. Лучше произвести эту операцию, чем тянуть мучительную борьбу.
В ночь на 12-е апреля, по ранее разработанному плану, вооруженные отряды Советской власти приступили к разоружению; решение было принято твердое, войскам было отдано приказание разоружить всех анархистов во что бы то ни стало… Есть несколько человек убитых и раненых с той и другой стороны. Несколько сот вооруженных людей, оказавших сопротивление и потом сдавшихся, арестованы. Их личность, мотивы их преступности будут выяснены в ближайшее время, и результаты следствия будут опубликованы возможно скорее, точно так же, как сведения о жертвах этой борьбы. При разоружении отобрана масса оружия: бомб, ручных гранат, несколько десятков пулеметов и бомбометов, огромное количество винтовок, револьверов и патронов. Эта масса оружия в руках явных контрреволюционеров и уголовных бандитов была угрозой всему населению.
Кроме того, найдено много золота и награбленных драгоценностей.
Совет Народных Комиссаров гор[ода] Москвы и Московской области и Президиум Московского Совета Рабочих Депутатов заявляют, что они доведут начатое дело до конца. Они не борются против самой организации анархистов, против идейной пропаганды и агитации, закрытие газет – акт временный, вызванный остротою момента…»[69]
Разгром московских анархистов стал не только страшным ударом собственно по ним самим, но и послужил явным и недвусмысленным сигналом тем, кто стоял в то время под черными знаменами далеко от красной столицы. Его услышали и поняли все, а решение принимали каждый свое – в зависимости от веры в анархию – мать порядка, в большевизм – отца диктатуры или просто в собственные силы, ум, хитрость, способности к выживанию. Верно спрогнозировать, кто в этой непростой борьбе возьмет верх, было чрезвычайно сложно, и еще не год и не два шла эта партизанская, то полуобъявленная, то совсем скрытая, то совершенно официальная война между красными и черными знаменами (не кончилась она и до сих пор – только теперь ведется уже между группами историков и интерпретаторов исторических событий столетней давности). Симпатии между партиями, течениями, политическими расцветками делили порой семьи на враждебные лагеря, и этот совершенно правдивый сюжет навсегда стал одним из главных в художественных произведениях об ужасе и внутреннем трагизме Гражданской войны. Но были и другие семьи, где проблема политических пристрастий решалась без драм, крови и слез. Одна из них – семья Ревзиных-Голубовских.
Первым свои представления о целях революции и способах их достижения поменял Владимир Федорович Воля. В декабре 1918 года он вновь сменил партийную принадлежность и вступил, теперь уже навсегда, в партию большевиков. Тогда же, в декабре, прослужив осень на границе с оккупированной немцами Украиной, он получил новое назначение: на должности командира и комиссара (такое совмещение случалось на ранних этапах становления Красной армии) 3-й Украинской дивизии Красной армии, формировавшейся для боев на Таврическом театре военных действий. Дивизию готовили всю зиму, и когда в феврале 1919 года соединение было готово к отправке на фронт, Воля покинул его и отправился дальше, но в обратную сторону, в тыл, в Харьков.
21-летний большевик Владимир Федорович Воля был назначен военкомом партизанского отряда имени ВЦИК или, как тогда писали, «имени В.Ц.И.К.». Всероссийский центральный исполнительный комитет был высшим органом после собиравшегося периодически Всероссийского съезда Советов и выполнял функции основного законодательного, распорядительного и контролирующего органа государственной власти РСФСР. Именно ВЦИК, например, формировал Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) РСФСР – правительство революционной власти – то самое, которое семь месяцев назад нанесло серьезнейший удар по московским анархистам. Понятно, что быть комиссаром в таком отряде, поднимать бойцов на борьбу с белыми и в целом с мировой буржуазией мог только человек проверенный, партийный, настоящий большевик. Да, пусть и ошибавшийся иногда в выборе пути (времена сложные – с кем не бывает), как это случилось с Владимиром Волей, но вовремя осознавший, с кем сила и правда. Впрочем, вряд ли Владимир Федорович спешил рассказывать новым знакомым о своем недавнем увлечении идеями Бакунина. Доверять вполне и безраздельно военкому отряда было бы логично только своим старым знакомым, своему ближнему кругу, и агитатором в новом партизанском отряде стала его сестра Люся, а помощником военного комиссара был назначен вернувшийся вместе с ней с Урала Жорж Голубовский.
Экспедиционный партизанский отряд Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) – так он правильно назывался – впервые был сформирован еще в августе 1918 года на Урале, где в то время как раз жили наши герои. Регулярная воинская часть численностью около пятисот человек, подчиненная непосредственно Революционному военному совету (Реввоенсовету) Республики, получила лично от Троцкого задание организовать и вести партизанскую войну в районе, который контролировал Чехословацкий корпус. В свой первый бой вциковцы вступили в октябре, а уже в декабре отряд, численность которого выросла до 30 тысяч (!) штыков, был переформирован в Партизанскую Красную армию, переброшен на север Украины, в район Луганска, где вновь переформирован – на этот раз из него получились 4-я партизанская дивизия и несколько регулярных воинских частей[70]. Идея партизанских рейдов, оказавшаяся вполне жизнеспособной, понравилась Троцкому, и новый отряд ВЦИКа получил приказ поддержать только что созданную тоже из партизан, но только Северной Таврии – бывших сторонников Украинской директории и отрядов «батьки» Махно, 1-ю Заднепровскую Украинскую советскую дивизию бывшего атамана, а ныне краскома Никифора Александровича Григорьева, наступавшую на Одессу.
Вольный город к тому времени уже изнывал от бесконечной чехарды генералов, атаманов и иностранных интервентов. Вот только в декабре – январе здесь укрепилась очередная коалиционная власть, основанная на союзе представителей Антанты и некоторых держав, не входивших в коалицию (всего – около 25 тысяч французов, 12 тысяч греков, более трех тысяч поляков, около тысячи румын), и белогвардейцев. Общими усилиями они удерживали линию фронта вдоль северного побережья Черного моря от Днестра до Крыма. Командование союзников обсуждало идею создания здесь самостоятельного правительства и формирования собственной смешанной армии, независимой от армии генерала Антона Деникина, который в это время вел бои с большевиками восточнее одесского района. Воспользовавшись бесконечными противоречиями и распрями в стане союзников, в феврале 1919 года разношерстная и идеологически не совсем красная Красная армия двинулась на Одессу. 10 и 14 марта были взяты крупнейшие и важнейшие, помимо Одессы, промышленные центры на побережье Черного моря – Херсон и Николаев. Войска союзников понесли потери в несколько сотен человек, и, не желая дальше жертвовать своими людьми, Антанта дала приказ о сдаче Одессы. 6 апреля, при еще незаконченной, но мирной эвакуации союзников из города, в него вступили первые отряды красноармейцев.
Одесса – город своеобразный, творческий, и уже меньше чем через неделю, 11 апреля 1919 года, местные поэты и писатели разных политических взглядов попытались объединиться, решив учредить профессиональный Союз литераторов. Их собрание почтил своим присутствием мэтр русской словесности, будущий эмигрант и нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин. Его супруга вспоминала, как была потрясена тем, что молодые поэты на этом собрании вели себя «нагло, цинично и, сделав скандал, ушли»[71]. Среди наглых и циничных скандалистов особо выделялся молодой Эдуард Георгиевич Багрицкий (Эдуард Годелевич Дзюбин) – в ту пору начинающий, но уже весьма амбициозный поэт, сразу и без колебаний определившийся со своей политической ориентацией.
Немедленно после собрания, так больно ранившего душу Бунина и его жены, Багрицкий вступил добровольцем в одну из воинский частей красных, вошедших в Одессу, – Особый партизанский отряд имени ВЦИК. Владимир Воля зачислил Эдуарда Георгиевича в штат инструктором политотдела, поручив ему заниматься агитацией в пользу советской власти и Красной армии, в том числе в стихотворной форме. Помимо Воли, начальником Багрицкого стал Георгий Голубовский, а ближайшей коллегой Люся Голубовская.
Увы, традицию не вспоминать Ольгу Федоровну в мемуарах Багрицкий поддержал. Да и вообще, не сохранилось, к сожалению, никаких воспоминаний о ее службе в отряде ВЦИК. Зато в нашем распоряжении есть записки о ее значительно более известном в советское время однополчанине: «Сослуживцы Багрицкого по партизанскому отряду вспоминали о нем как о “чудесном и самоотверженном товарище, скромном и задушевном”, как об авторе “множества листовок, разъясняющих трудящимся сущность событий, призывающих к защите советской власти… Мы прекрасно помним, – рассказывали они, – как небольшие желтые листочки разбрасывались нашими разведчиками далеко впереди цепей и читались по деревням крестьянами и рабочими”»[72].
Что было написано на тех листочках, мы тоже примерно знаем. На одном из них, дошедшем до наших дней, с энергичным призывом «К оружию!» в заголовке, читаем следующее:
«Товарищи рабочие,
если вы хотите, чтобы снова начали работать фабрики, чтобы можно было наладить ввоз и вывоз товаров, записывайтесь в Красную армию.
Товарищи! Преступление сидеть сложа руки, когда Советская Россия зовет вас на помощь!
Товарищи! Вы защищаете свои права, вы защищаете власть Советов, в которых находятся ваши же братья рабочие! Какие же разговоры тут могут быть. Все слова лишни (так в документе. – А. К.).
Всякий, кто может носить оружие, пусть берет винтовку и идет с нами на фронт. Колебаний быть не может. Кто не с нами, тот против нас!»[73]
Трудно сказать, насколько оригинальным и сугубо одесским был этот текст, но опора на экономические стимулы в идеологическом призыве бросается в глаза, а уж мечта о свободном ввозе-вывозе товаров и вовсе навевает воспоминания о черноморских пикейных жилетах, равно как и евангелистский лозунг «Кто не с нами, тот против нас!». В любом случае теперь, на примере Багрицкого, мы примерно можем представить, чем занималась в отряде специалист по политработе Люся Голубовская и какими могли быть первые тексты, вышедшие из-под ее революционного пера. И не только в виде агитационной прозы.
Мы не знаем, писала ли Люся Голубовская стихи до прихода отряда в Одессу, но точно знаем, что их писал Эдуард Багрицкий. Более того, известно, что и свои агитки время от времени он создавал в стихотворной форме. Они не вошли ни в один из его поэтических сборников по понятным причинам: сложно оценить достоинства, которых нет. Тем не менее для самого Багрицкого подобные воззвания на долгое время стали источником существования, а для Ольги Федоровны Голубовской образцом работы хотя и молодого, но уже признанного – в узких одесских кругах – поэта. Вот одно из таких политически выдержанных творений:
- В последний час тревоги и труда
- Над истомленными бойцами
- Красноармейская звезда
- Сияет грозными лучами.
- Ружье, лопата, молот и кирка
- Теперь оружие героя.
- Ничья злодейская рука
- Не сможет выбить вас из строя.
- Идите, братья, к нам! Тревожен час!
- Враги грозят свободе и народу.
- Пока огонь Свободы не угас,
- Идите биться за Свободу[74].
Вопрос влияния партизанских виршей Багрицкого на раннее творчество Елены Феррари остается открытым и существует вне рамок нашего исследования. Само по себе наличие факта совместного существования в крайне замкнутом коллективе небольшой воинской части (да еще в одном микроскопическом ее подразделении) должен навести на размышления о том, насколько самостоятельна могла быть в начале своего литературного пути наша героиня, каких внутренних усилий стоило ей отойти от агитационно-штампованных воззваний в стиле ее признанного коллеги и как повлияли на формирование ее художественного вкуса последующие изменения обстановки, условий жизни семьи Ревзиных – Голубовских. Сам Багрицкий позже писал: «Я еще не понимал прелести использования собственной биографии. Гомерические образы, вычитанные из книг, окружили меня. Я еще не был во времени – я только служил ему. Я боялся слов, созданных современностью, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону – они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал – очень уж мое творчество отъединилось от времени. Два или три года я не писал совсем. Я был культурником, лектором, газетчиком – всем чем угодно – лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать в свои стихи. Я понял, что вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника революции»[75]. Нельзя будет не вспомнить это признание, этот анализ истоков собственного творчества и вдохновения, когда мы будем читать стихи Елены Феррари. Ей тоже понадобятся силы и время, чтобы прийти к идее о том, что не может быть литературы за пределами собственного опыта, что всё, что кроме – фальшиво. И если первые ее стихи, за малым исключением, похожи на «образы, вычитанные из книг», то позже, в свой итальянский период, Елена Феррари вернется как раз к своему опыту, к своим впечатлениям. Впрочем…
Исследователи биографии Эдуарда Багрицкого не раз подчеркивали, что, несмотря на постоянное обращение к теме «шатания по окопам», «вмерзания в кронштадтский лед» и прочих естественных для войны тягот и лишений военной службы, больной астмой и туберкулезом поэт-агитатор сам никогда ничего подобного не испытывал, редко выходя в мир из теплушки, в которой размещался агитационный отдел отряда, а затем и регулярной части, в которую его в очередной раз переформировали уже в июле 1919 года. Похожая ситуация могла сложиться и со страдающей туберкулезом Ольгой Федоровной Ревзиной-Голубовской. У нас как нет ни единого документального доказательства участия Ольги в боях Гражданской войны – именно в боях, в качестве рядового бойца, державшего в руках винтовку и ходившего в атаку или сдерживавшего кавалерийские лавы деникинцев, так нет и никаких документов, опровергающих это. Опираясь на скудные имеющиеся данные, мы можем говорить только о том, что какое-то время в период службы в отряде имени М. А. Бакунина Ольга Федоровна служила сестрой милосердия, а далее полностью посвятила себя и свои проклевывавшиеся навыки и таланты делу агитации и пропаганды.
В июне отряд имени ВЦИК отвели в тыл, и началось его очередное переформирование – в регулярную часть Красной армии. Что в это время происходило с нашими героями, до конца неясно. Владимир Воля вроде бы стал командиром 1-й бригады 3-й Украинской дивизии 13-й армии. Во всяком случае, 3-я Украинская дивизия третьего формирования была создана в июле, как раз когда прекратил свое существование отряд ВЦИК. Далее в канонической версии событий указывается, что «с июля по сентябрь он (В. Ф. Воля. – А. К.) – начальник и военный комиссар штаба кавалерийской дивизии 14-й армии, выполнял отдельные поручения в тылу врангелевских войск»[76]. Это снова вызывает некоторые вопросы.
Дело в том, что в июле 1919 года войска генерала Петра Николаевича Врангеля взяли Царицын (ныне Волгоград), а 14-я армия красных вела тяжелые оборонительные и контрпартизанские бои (против войск батьки Махно) в районе Донбасса и Екатеринослава. Кавалерийская дивизия в составе этой армии нам известна одна: 8-я дивизия червонного казачества, но, к сожалению, ни среди ее командиров, ни среди начальников штаба и военных комиссаров Владимир Воля никогда не числился[77]. В любом случае не вполне понятно, каким образом начальник штаба кавалерийской дивизии мог бы оставить ее в разгар боев, для того чтобы выполнять «отдельные поручения в тылу врангелевских войск на Черном море, где им была захвачена неприятельская шхуна с грузом и пленными»[78].
На самом деле кое-что из этого действительно было: и шхуна, и груз, но только не тогда и не там. Никто не отправлял из-под Екатеринослава (!) штабного работника Владимира Волю, который ранее ничем похожим не занимался, захватывать какую-то загадочную шхуну. Что же касается дополнительных изысканий по поводу «ценного груза» и теперь уже «пленных красных командиров»[79], то эта фантазия переводит историю наших героев в разряд славных красноармейских сказок в стиле раннего Багрицкого.
В документах Воли есть отметка о первой его заброске в тыл противника, но состоялась она годом (!) позже: «В 1920 году был командирован за границу в тыл к меньшевикам (Грузия) и Врангелю (Крым)»[80]. Разница вроде бы небольшая, но она сдвигает начало работы и брата, и сестры Ревзиных на военную разведку на совершенно другой исторический период, в иные условия Гражданской войны. Кстати, а что с ней, с Люсей Голубовской?
Все по той же версии Владимира Лоты, Ольга Голубева зимой 1918/19 года «разорвала отношения с анархистами, добровольно вступила в ряды 1-й Украинской советской дивизии. В составе этой дивизии она принимала активное участие в боях против белогвардейцев и интервентов, была санитаркой, стрелком и даже стала командиром стрелкового отделения. В 1920 году прошла курс Всеобуча (так в источнике. – А. К.) в Екатеринославе»[81].
Как ни странно, сама она ни о каких боях в этот период не вспоминает: «В 1919 году возвратилась на Украину, работала секретарем Агиткурсов и инструктором полит-просвета при Политуправлении XII армии. В Днепропетровске прошла курс Всевобуч и работала там же отделенным командиром»[82]. Ну и конечно, командир стрелкового отделения в линейных частях – пехотинец в окопе, отвечающий не только за себя, но еще и за нескольких солдат своего отделения, командующий ими в бою, – совершенно не то же самое, что командир отделения Всевобуча (так правильно – Всеобщее воинское обучение) – организации, занимающейся воинской подготовкой призывников, из которой потом вырос ДОСААФ, хорошо знакомый многим гражданам СССР. Кроме того, училась и работала во Всевобуче Люся Голубовская не в 1920-м, а в 1919 году и, судя по всему, тоже очень недолго.
Думать так заставляют служебные перемещения мужа Ольги – Георгия Григорьевича Голубовского. Тот после завершения эпопеи с отрядом ВЦИК был назначен военным комиссаром созданной на его основе бригады в составе 2-й Украинской дивизии, а затем, с 16 июня 1919 года, – 46-й стрелковой дивизии[83], которая летом была сформирована в тылу красных войск, а с июля действительно вела тяжелые бои с деникинцами и номер которой нашей героине потом наверняка хотелось навсегда забыть. Участвовать в боях семье Ревзиных – Голубовских (учитывая полнейшую путаницу с местом службы Владимира Воли, резонно предположить, что они, как обычно, находились рядом друг с другом) либо не довелось совсем, либо крайне мало. Потому что уже в сентябре Георгий Голубовский и Владимир Воля одновременно (!) были направлены на учебу в Москву – в военную академию.
С оперативно-тактической точки зрения Гражданская война в России к лету 1919 года приобрела формы современной войны между двумя государствами. На смену очаговым боестолкновениям и фронтам в смысле крупных войсковых объединений с расплывчатыми границами театров военных действий, с борьбой за железные дороги и водные пути пришли развернутые линии фронтов в современном понимании – с четко определенными границами действий армий, дивизий, бригад. В армии начали формироваться артиллерийские и кавалерийские части и соединения, хотя раньше предполагалось, что для борьбы с «мировой буржуазией» достаточно будет и отрядов революционных рабочих – Красной гвардии. Вернулось отвергнутое в пылу революционных исканий понимание необходимости воинской дисциплины, неукоснительного исполнения приказов, следования законам войны. Ничего нового в этом не было. Вот только объяснить эти старые – и не то что забытые, а с корнем выдернутые из Красной армии вещи было некому – царских военспецов частью выгнали, частью уничтожили физически еще в 1917-м. Новым было взяться неоткуда. Для решения этой проблемы Реввоенсовет решил пойти сразу обоими путями. Начиная с осени 1919 года в действующую Красную армию активно набирались бывшие царские офицеры, в том числе офицеры Генштаба, под руководством которых пролетарские командиры должны были научиться искусству войны. В Москве же решили ускоренными темпами учить тому же, но в теории.
Главное военно-учебное заведение страны, занимавшееся обучением будущего руководящего состава армии, – Императорская Николаевская военная академия, – до революции находилось в Петрограде. После известных событий Николаевская академия почти полностью перешла на сторону контрреволюции и в чрезвычайно усеченном виде продолжала функционировать в тылу белых. В октябре 1918 года Реввоенсовет Республики приказал открыть свою академию (Академию Генерального штаба Красной армии), но уже в Москве. Она была «…должна давать не только высшее военное и исчерпывающее специальное, но и по возможности широкое общее образование, дабы лица, окончившие ее, могли занять штабные и командные должности и являлись людьми, способными откликнуться на все вопросы политической, общественной и международной жизни… Кроме военных в Академии должны изучаться и общеобразовательные, специальные и философские науки…».
Если точнее, то в новой военной академии планировалось изучение стратегии и философии войны, тактики всех родов войск, военной психологии, истории военного искусства, истории Великой (Первой мировой) войны 1914–1918 годов, военной географии, администрации и еще тринадцати предметов, включая вопросы мирового хозяйства и один, но обязательный иностранный язык (вероятного противника): немецкий, японский, английский или французский. Разумеется, теория должна была сопровождаться насыщенным курсом практических занятий, а общий курс обучения был рассчитан на три года. При этом в наборе осени 1919 года числилось 24 слушателя с высшим образованием, а с низшим и средним – 80, и, разумеется, планы оказались бесконечно далеки от реальности.
Слушатели, только что приехавшие в столицу с фронтов, практически полностью игнорировали свои обязанности, прежде всего по теоретическому изучению дисциплин, и если приходили на занятия, то в основном на практические. «Ни в одном военном учреждении я не видел такой слабой дисциплинированности, как в академии», – отмечал ее комиссар в декабре 1919-го[84] – именно в то время, когда там должны были учиться наши герои.
То, что в Академию Генерального штаба был направлен не только Владимир Воля, но и его зять Георгий Голубовский, является еще одним свидетельством того, что после возвращения из Одессы семья не распалась, она продолжала свою одиссею по фронтам Гражданской войны, и, похоже, в расширенном составе. В Москву Ревзины – Голубовские ехали долго, и в воспоминаниях – весьма своеобразных, ибо записаны они были позже на допросе в Московской чрезвычайной комиссии (МЧК), ни Жорж, ни Люся Владимира Волю не упоминают ни разу. Но они вообще старались не акцентировать внимание следователя на родственниках и сложных связях, опутавших эти семьи. Однако известно, что в столицу Голубовские добирались через Брянск, и на одной из станций, не доезжая до этого города, к ним в вагон подсели еще два человека. Ольга потом будет рассказывать, что это произошло без нее, пока она выбегала на станцию за кипятком для чайника, но это не так уж важно. Важно другое: как минимум одного из этих людей она знала раньше, по работе на екатеринославском заводе, а ее муж знал обоих[85]. Он же – Георгий Голубовский познакомил новых попутчиков с еще одной женщиной – сестрой милосердия, добиравшейся в столицу с фронта (служила с ними?). Звали ее Александра Григорьевна Ратникова, и Георгию Григорьевичу она приходилась родной старшей сестрой, а в дальнейших событиях ей предстояло сыграть особенную роль.
Глава пятая
Дух разрушающий
Максимилиан Волошин «Северовосток». 1920 год[6]
- И еще не весь развернут свиток,
- И не замкнут список палачей:
- Бред разведок, ужас чрезвычаек —
- Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
- Не видали времени горчей.
Вечером в четверг, 25 сентября 1919 года в бывшем доме графа Уварова в Леонтьевском переулке, занятом теперь Московским комитетом РКП(б), началось рабочее заседание по вопросам деятельности городских партийных школ. Собрались около 100–120 человек – в основном члены партийного актива Москвы и несколько представителей высшей власти. Ходили слухи, что должен приехать Ленин, но самыми высокопоставленными среди присутствующих оказались член ЦК партии большевиков Николай Иванович Бухарин, старые большевики Евгений Алексеевич Преображенский и Михаил Иванович Покровский. Вел собрание почему-то заместитель председателя Совнаркома Белоруссии Александр Федорович Мясников, а помогал ему секретарь Московского горкома Владимир Михайлович Загорский (Вольф Михелевич Лубоцкий). Когда прозвучали основные доклады и собрание уже подходило к концу, самые нетерпеливые участники начали продвигаться в сторону выхода. В этот момент в задней части зала заседания, за спинами собравшихся, раздался звон разбитых стекол и неприятное шипение – с таким характерным звуком в начале XX века срабатывали химические взрыватели на бомбах. Народ бросился от задней стены к окнам и дверям. Немедленно образовалась давка. Загорский, по воспоминаниям очевидцев, крикнул: «Спокойнее, ничего особенного нет, мы сейчас выясним, в чем дело!» – и бросился туда, откуда раздавалось шипение. Как ни странно, люди действительно успокоились и за несколько секунд, пока Загорский говорил и продвигался к бомбе, часть даже успела покинуть помещение. После этого тяжелый, полуторапудовый фанерный ящик из-под фонаря, начиненный динамитом и нитроглицерином, взорвался в руках у секретаря Московского горкома.
Взрыв был колоссальной силы. Задняя часть дома, ближе к которой упала бомба, обрушилась в сад вместе с крышей, на полу зияла воронка около трех метров в диаметре. Погибли 12 человек – в основном партийные работники среднего и низшего ранга, в том числе, разумеется, и Загорский. Еще 55 человек были ранены и контужены, включая Николая Бухарина, получившего ранение правой руки, и чекиста Арвида Пельше, который прожил потом еще более полувека и в итоге стал главой ЦК компартии в Советской Латвии и старейшим членом брежневского политбюро.
Утром следующего дня в Москве объявили военное положение. Гражданская война шла к своему пику, и ВЧК под руководством уже тогда знаменитого, великого и ужасного Железного Феликса приступила к розыску белых диверсантов. Другие версии взрыва всерьез даже не рассматривались. Не просто склонные к террористическим методам, а видящие в них действенное средство достижения политических целей анархисты и эсеры были разгромлены в Москве еще год назад. Самых активных боевиков либо уничтожили, либо заставили бежать. Многие после событий весны – лета 1918 года поняли, кто сильнее, и пошли на сотрудничество с большевиками (им это еще аукнется в 1930-е), кто-то просто надеялся, что ленинцы сами перерастут фазу красного террора и диктатуры, а затем вернутся к когда-то общим радужным идеалам безвластия и подлинной свободы (и этим аукнется тоже). Наконец, значительная часть анархистов в это время находилась на фронтах, в первую очередь на юге, у «батьки» Махно. Но кое-кто оказался в Москве. Как потом выяснилось, совершенно неожиданно для чекистов.
По мере того как крепла и становилась более большевистской Красная армия, анархисты, бежавшие вначале от гонений, волной прокатившихся по крупным промышленным центрам, почувствовали, что даже на фронте дни махновских и других анархистских соединений, частей и отрядов сочтены, а уж в грядущий процесс коммунистического государственного строительства они не впишутся точно. Большевики умело использовали «батьку» Махно и его «орлов» в борьбе против Деникина и Врангеля и каждый раз, когда накал сражений ослабевал, усиливался нажим на самого крестьянского вожака. Понимая, что Махно не устоять против Троцкого, часть сподвижников «батьки» снова двинулась в путь. Одни ушли в Сибирь, чтобы сражаться против «сибирского диктатора» – Александра Васильевича Колчака. Другие прорывались в тыл войск Деникина, надеясь на военный успех и поддержку крестьян там, и, наконец, одна, глубоко законспирированная, группа направилась в Москву – для мести большевикам. В ее состав входили Казимир Ковалевич, слывший лидером анархо-синдикалистов среди железнодорожных рабочих – пролетарской элиты тех времен, Петр Соболев и Михаил Гречанников, служившие до этого в контрразведке Махно, бывший эсеровский боевик Донат Черепанов – «хулиган», по определению своего одноклассника поэта Владислава Ходасевича, и многие другие решительно настроенные личности, которые видели последний шанс на победу в организации серии шокирующих терактов в сердце большевистской России – Москве.
За короткий срок в столице была создана слаженная подпольная организация, сумевшая остаться абсолютно незамеченной для чекистов и у них под носом организовавшая производство бомб для диверсий и типографию для печати пропагандистских листовок тиражом до 15 тысяч экземпляров каждая. Деньги на все нужды добывались проверенным способом: организацией «эксов», то есть налетов, грабежами касс в Москве и даже на оружейном заводе в Туле. Готовились «взорвать» режим, но взрыв в Леонтьевском переулке стал первой и последней акцией этой группы.
Тайну авторства диверсии долго сохранить было невозможно. Организаторы теракта неизбежно должны были заявить о том, что взрыв в Леонтьевском – это их рук дело, но сначала необходимо было подготовить пути отступления. Однако, как часто бывает в подобного рода делах, мощную и хорошо законспирированную организацию погубило нелепое совпадение. Пока чекисты просеивали население Москвы в поисках диверсантов Деникина, 29 октября в их руки совершенно случайно попалась (в поезде и далеко от столицы: как раз в районе Брянска) восемнадцатилетняя анархистка Софья Каплун с письмом, указывавшим на истинных организаторов взрыва. Следствие немедленно развернулось в нужную сторону и скоро получило доказательства. В материалах, изъятых при первых обысках и отпечатанных в той самой типографии, недвусмысленно объяснялись мотивы диверсии:
«…Вечером 25 сентября на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бунтующим народом. Властители большевиков все в один голос высказались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми эсерами, вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами…
Наша задача – стереть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны и установить Всероссийскую вольную федерацию союзов трудящихся и угнетенных масс… Близится третья социальная революция…
17 июня с. г. Чрезвычайный военно-революционный трибунал расстрелял в Харькове семь повстанцев: Михалева-Павленкова, Бурбыгу, Олейника, Коробко, Костина, Полунина, Добролюбова и затем Озерова. 25 сентября с. г. революционные повстанцы отомстили за их смерть Московскому комитету большевиков. Смерть за смерть! Первый акт совершен, за ним последуют сотни других актов, если палачи революции своевременно сами не разбегутся»[86].
Теперь оставалось только найти непосредственных исполнителей взрыва, тех, кто за ними стоял, и по возможности ликвидировать всю организацию, включая ее ячейки и отделения в других городах. Московская ЧК развернула настолько бурную деятельность, что сегодня можно только поражаться тому, как эффективно работали чекисты и какая точная была составлена база данных потенциальных преступников в эпоху, далекую не только от компьютеров, но даже от стопроцентной грамотности оперативников и следователей. Арест первых двух анархистов привел к целой цепочке следующих провалов. Вскоре на подмосковной даче в Краскове были обнаружены типография и химическая лаборатория, которые при штурме были взорваны обороняющимися. Непосредственные исполнители теракта в Леонтьевском Ковалевич и Соболев погибли в перестрелке. Но на разных московских адресах взяли живыми других лидеров боевиков: Александра Барановского, Михаила Гречанникова, Леонтия Хлебныйского и многих других. У арестованных в больших количествах изымались деньги, оружие, боеприпасы, липовые документы. Причем нередко сами бланки были настоящими, подлинными, и только внесенная в них информация оказывалась легендой прикрытия.
Арестованный МЧК боевик Леонтий Васильевич Хлебныйский (настоящее имя Иван Лукьянович Приходько, подпольная кличка «Дядя Ваня») явился в Москву с фронта, из 46-й стрелковой дивизии, где успел всего две недели послужить помощником начальника штаба. Этого времени ему хватило на главное: легализоваться и разжиться необходимыми для пребывания в столице документами. Его «случайным» попутчиком стал еще один боевик – Александр Петрович Домбровский («Сашка»), в 46-й дивизии не служивший, но получивший бланки соответствующих документов от третьего попутчика – Казимира Ковалевича, ставшего одним из главных организаторов и исполнителей террористического акта. Стоит ли говорить, что все они ехали в Москву вместе с другим помощником начальника штаба все той же 46-й дивизии – Георгием Голубовским, его сестрой Александрой и женой Люсей. По пути Жорж предложил своим старым друзьям место, где можно остановиться в Москве, – квартиру родственников в доме номер 5 по Троицкому переулку. Там, на постое у супругов Ратниковых, 3 ноября чекисты и взяли Домбровского и Хлебныйского – обоих с документами военнослужащих 46-й дивизии. Арестовали их вместе с хозяевами, и источник, из которого террористы получали документы прикрытия, обнаружился очень скоро.
Из показаний Александра Домбровского, данных им на следствии в МЧК в период с 6 по 27 ноября 1919 года:
«Признаюсь, что я скрыл, что бланки я получил от Г. Голубовского, потому что не хотел его впутать в грязную историю. Точное количество бланков, полученных мною от Г. Голубовского, я не помню, но кажется, что было их около десяти, все эти бланки были с печатью 46-й дивизии. Кроме этого, он назвал фамилии, нужные для подписи, также дал мандат, заполненный уже для образца. Голубовский мне бланки, собственно говоря, не продал, но одолжил у меня около пяти тысяч рублей. Часть бланков я получал от Г. Голубовского в дороге, когда с ним ехал в вагоне, а часть получил здесь, в Москве. Я Голубовскому не говорил, для какой цели я беру эти бланки, хотя он и спрашивал меня, для чего я беру столько…
Пять бланков военно-политического комиссара 46-й стрелковой дивизии с печатями я похитил у Голубовского на квартире…
Прошу внести поправку. Что касается моих предыдущих показаний, будучи очень взволнованным, я перепутал некоторые подробности в своих показаниях. Я раньше говорил о том, что ходил куда-то на собрание подпольных анархистов, но теперь я вижу, что я перепутал, никуда на собрание каких бы то ни было анархистов я не ходил (ни подпольных, ни легальных). Отрицаю также и то, что я одолжил Г. Голубовскому деньги; последний у меня никогда денег не просил, а также я ему не давал.
Голубовский дал мне около десятка бланков, так как я собирался ехать на Украину. Кроме того, я без его ведома взял у него штук пять бланков. Я часть их передал Хлебныйскому, часть их была возвращена в напечатанном виде. Квартиру в Троицком переулке нам указал Голубовский, и мы прямо проехали с вокзала туда. На других квартирах я не жил. Заходил я в гости к Голубовскому и в гостиницу “Луна” к Воле»[87].
Нетрудно догадаться, что упоминаемые в протоколах Владимир Воля и, особенно, Георгий Голубовский встретились с чекистами, как только их фамилии были произнесены впервые – задолго до того, как были подписаны протоколы допросов их бывших товарищей по оружию.
«Секретно.
Оперативный отдел М.Ч.К.
В Оперативную часть М.Ч.К.
Прошу выписать ордер на обыск и арест гр. ГОЛУБОВСКОГО, курсанта Военной Академии и [его] жены Люси Ревзин, проживающей Арбат, Малый Афанасьевский пер., дом 14, кв. 2.
Обвиняемого: контр-революция.
Основание: III отдел.
Примечание: Арест обязательный. Если нет на Арбате, то поехать в Академию.
1919 г. ноября 5 дня»[88].
Трогательная приписка-памятка об обязательном аресте свидетельствует о способах работы оперативников ЧК тех времен. Тогда еще имели место случаи, когда можно было допросить на месте и отпустить, или взять подписку о невыезде, или «арестовать по усмотрению комиссара». Но в МЧК волновались и дополнительно наставляли опергруппу напрасно. В соответствии с полученным ордером чекисты Кравченко и Федосеев арестовали Жоржа и Люсю, а также провели «обыск, ревизию, выемку документов и книг» подозреваемых.
Результаты осмотра квартиры оказались предсказуемыми:
«Изъяты: 1 карабин и около 80 патронов к нему. Один кольт № 67025, 2 обоймы и 15 патронов. 1 браунинг, 2 обоймы и 6 патронов. Полевой бинокль, 1 штык. 2 чистых паспортных книжки, 4 чистых бланка с печатями…» и множество чистых, готовых к заполнению бланков с угловыми штампами 46-й дивизии[89].
Начались допросы Георгия Григорьевича, Люси и Владимира (его взяли тоже). Молодые люди вряд ли казались чекистам опытными конспираторами или грамотными, пламенными пропагандистами, но, сидя в московской Бутырской тюрьме, вывозимые на допросы, они держались довольно уверенно: чувствовалась дореволюционная закалка. Напомним: на момент ареста неформальному лидеру этой большой семьи, начальнику штаба дивизии, бывшему командиру партизанского отряда и военкому Владимиру Воле был 21 год от роду. Его сестре Люсе – 20; ее мужу Жоржу, Георгию Григорьевичу Голубовскому – 26. По тем временам – взрослые люди (чекист Яков Блюмкин застрелил германского посла Мирбаха в 18 лет от роду и чуть не изменил ход мировой истории).
Несмотря на то что откровения арестованных не заставили себя ждать, извлечь из их показаний что-то интересное оказалось непросто. В первом же протоколе допроса Георгия Голубовского (неизвестно, сколько продолжался этот допрос и как это выглядело) зафиксировано его робкое признание вины, но отнюдь не в сотрудничестве с террористами, а… в легкомыслии: «…может быть, моя вина в том, что я имел такое большое количество бланков с печатями». Объяснение в том, зачем ему понадобилось такое количество бланков во время учебы в академии, не поражало оригинальностью, но и не позволяло, как говорят юристы, усмотреть преступный замысел: «Взял на случай, если понадобятся в командировке».
Ольга Голубовская, судя по фото, сделанному в день ареста, выглядела вполне бодро и уверенно. На лице ее, кажется, заметна даже легкая полуулыбка, а огромные озорные глаза смотрят в объектив совершенно спокойно. Она в шинели, без головного убора, но в накрученном на шее то ли платке, то ли башлыке (5 ноября 1919 года в Москве стояли холода, было около восьми градусов мороза). На первом допросе она отрицала всё: «О том, что у моего мужа были бланки с печатями 46-й дивизии, я узнала лишь при обыске у нас. До этого я их никогда не видела, и муж мой мне ничего о них не говорил. Так же не знаю, давал ли гражданин Домбровский мужу моему деньги»[90].
«Раскалывала» Голубовскую тоже женщина. Сегодня ее вряд ли можно было бы назвать опытным следователем (да и сама Чрезвычайная комиссии существовала всего 11 месяцев), но совершенно точно ей нельзя было отказать в уме, логике, образовании и преданности делу революции. К тому же она не понаслышке знала психологию противников большевиков и понимала, как с ними надо работать.
НАША СПРАВКА
Наталья Алексеевна Рославец-Устинова (1888–1957) – дочь профессора Московского университета, доктора медицины, гласного Московской городской думы и известного коллекционера, члена совета Третьяковской галереи Алексея Петровича Лангового. Русская. Окончила Высшие женские курсы в Москве в 1912 году. Примкнула к эсерам. Среди них встретила своего будущего мужа – композитора и выдающегося музыкального теоретика Николая Андреевича Рославца. В 1918 году порвала с эсерами и вступила в РКП(б). С ноября того же года – следователь ВЧК, затем заместитель начальника, начальник Отдела МЧК по борьбе с преступлениями по должности. В 1919–1920 годах – член Коллегии МЧК и начальник Отдела по борьбе с контрреволюцией. С мая 1920-го – начальник секретной части Особого отдела ВЧК. Позже – начальник Секретного отдела, заместитель начальника Административно-организационного управления ВУЧК, начальник Организационного отдела Административно-организационного управления ОГПУ. С мая 1924 года работала в НКИД СССР. С 1926-го – секретарь полпредства СССР в Греции. С 1930 года не занимала ответственных постов, работала на второстепенных должностях в Грузии, в том числе в Тбилиси, где служил ее второй муж – разведчик и дипломат Алексей Михайлович Устинов (расстрелян в 1937 году). В 1948–1949 годах находилась в заключении, до 1954-го – в ссылке. Последняя должность – бухгалтер психоневрологического диспансера в Москве. С 1955 года на пенсии.
О том, как глубоко «копали» чекисты под руководством Натальи Рославец и как широко «забрасывали они сеть», изучая окружение реальных и потенциальных боевиков-анархистов и их предполагаемых пособников, свидетельствует еще один любопытный документ.
В МЧК был допрошен секретарь недавно образованного Польского бюро пропаганды и агитации при Российской коммунистической партии Стефан Иоахимович Братман-Бродовский. Как вышли на его след, неизвестно, но на допросе он сообщил, что «в сентябре или октябре 1919 года к нему явился некто в военной форме и, назвав себя Голубовским, или правильно по-польски Голембиовским», кратко рассказал свою биографию, начиная с рождения в Варшаве и побега из Кексгольмского полка. Георгий Григорьевич, а это был, конечно, он, поведал Бродовскому, что в Академии Генерального штаба, куда он прислан на обучение с фронта, «чувствует себя нехорошо», учиться ему трудно (обучение еще даже не началось!) и он просит отправить его… в Польшу на подпольную работу.
У Бродовского во время допроса не уточнили, спрашивал ли он у неожиданного посетителя документы, но если спрашивал, тот наверняка предъявил ему бумаги с печатями все той же 46-й дивизии, которых у него было в избытке. Бродовский – администратор с высшим образованием, подпольщик, член РСДРП с 1903 года, прекрасно понимал, что в Москве 1919-го документы можно получить любые, а потому его больше интересовала личная рекомендация кого-нибудь из авторитетных большевиков. Все-таки речь шла о более чем серьезных вещах: о заброске на подпольную, то есть разведывательную, работу в панскую Польшу. Обсуждать эту тему с человеком, который зашел с улицы, было бы по крайней мере неосмотрительно без серьезных рекомендаций для последнего. Голубовский-Голембиовский не растерялся и подтвердил: да, такой человек есть: наркомвоенмор Республики товарищ Лев Давидович Троцкий, который знает Георгия лично, после чего они с Бродовским расстались, и больше Голубовский его не навещал[91].
И все же… Поляки поляками, но Наталье Рославец и без апелляции к Троцкому очень скоро стало понятно, что непосредственно к организации взрыва в Леонтьевском переулке многочисленная и такая энергичная семья Ревзиных – Голубовских – Ратниковых прямого отношения не имеет. Да, боевики жили на квартире Ратниковых, но, похоже, только потому, что Георгий Голубовский знал их раньше и дал возможность найти угол в Москве, что по тем временам было непросто. Само пребывание Хлебныйского и Домбровского у Ратниковых, их тесное общение и даже совместные походы в театр служили для террористов алиби, которое предстояло либо подтвердить, либо опровергнуть, но виноваты ли в этом Голубовские? Скорее всего, нет.
Из показаний Александра Домбровского: «Дополнительно показываю, что 25 сентября с. г., в день взрыва на Леонтьевском переулке, я был в театре (во 2-й студии) с Хлебныйским (Дядя Ваня), Ратниковым, Виленской и, кажется, также Голубовским, и перед последним действием мы с Хлебныйским вышли из зрительного зала в фойе и пили кофе, где мы дожидались Ратниковых и Виленскую. Вместе с ними отправились домой на 1-й Троицкий переулок, номер дома 5. Когда входили в квартиру, мы услышали какой-то взрыв, но что он означал, я не знал. Насколько мне известно, есть кроме меня еще один Саша – Барановский, который участвовал во взрыве. Говорили мне это члены группы анархистов подполья, но кто именно, не могу сейчас вспомнить».
Из показаний Леонтия Хлебныйского: «Когда, возвращаясь из театра, мы вошли в квартиру, то услышали взрыв. Через неделю или полторы недели после взрыва я слышал от Миши Гречанникова о том, что взрыв был делом анархистов подполья и участвовали в нем он сам, Федя и Яша»[92].
В результате Рославец вынесла свое собственное заключение, с одной стороны, близко повторяющее то, что говорили боевики, а с другой – оставляющее под подозрением самих опасных участников группировки:
«…Сестра Голубовского Ратникова показывает, что в день взрыва она с мужем, Голубовский с женой и боевики анархисты Шурка Домбровский и Дядя Ваня Хлебныйский (Наталья Рославец называет их кличками, под которыми они проходят в показаниях большинства других арестованных. – А. К.) были все вместе в театре, причем двое последних незадолго до взрыва куда-то удалились из театра и пришли домой позже остальных, досидевших до конца»[93].
Ничего предосудительного или, во всяком случае, уголовно наказуемого не было обнаружено и в отношении Владимира Воли, а потому и он, и его сестра после двух недель пребывания в Бутырской тюрьме были освобождены и вернулись на свои места жительства: он – в гостиницу «Луна» на Малой Дмитровке, 16, она – в Малый Афанасьевский переулок, 14. Вернулись в свой Троицкий переулок и супруги Ратниковы. Вернулись временно, ненадолго.
Очередное совпадение: в эти же самые дни в Москве открылся памятник великому теоретику анархизма, чьим именем Владимир Ревзин назвал когда-то свой партизанский отряд, с которого началась военная карьера всех Ревзиных – Голубовских, – Михаилу Бакунину. Никита Потапович Окунев в своем широко известном «Дневнике москвича» записал тогда: «У Мясницких ворот сооружен памятник Бакунину. Материал добрый – не тот, из которых сооружены другие революционные памятники, которые уже на второй год своего существования развалились. Но то, что создано резцом скульптора-футуриста, ни к черту не годится. В самой статуе не только Бакунина не узнаешь, но вообще никакого подобия человеческого не найдешь. Летом его хотели открыть, но не решились, и стыдливо прикрыли это произведение тесом. Наступила зима, “прикрытие” мало-помалу редело, ибо тес растаскивался на топку. И вот сегодня я видел, что памятник окончательно “открыт”. Как известно, на постаменте памятника высечено: “Дух разрушающий есть созидающий дух”. Стало быть, сбылось реченное!»[94]
Встречать Новый год в камере, пережить там «открытие» памятника своему кумиру, а потом еще долго коротать свои дни в старом тюремном замке из всех бывших партизан-бакунинцев предстояло только Георгию Голубовскому. Но его жена – неутомимая Люся отнюдь не забыла своего любимого, не собиралась его бросать и готова была бороться за его свободу. Средств для этого у нее не было практически никаких, но энергии и любви хватало с избытком. Действовать она решила из относительно безопасного далека и теми немногими способами, какие имелись в ее распоряжении.
Хотя суд над террористами не планировался, о ходе расследования заинтересованные лица знали. В феврале уже нового, 1920 года участь боевиков решила Коллегия Московской ЧК. Восемь террористов, включая Хлебныйского и Барановского, были приговорены к расстрелу. Наталья Рославец вынесла свое заключение и по делу Георгия Голубовского. Из материалов следствия видно, что она не верила ни единому слову бывших и нынешних анархистов, но изо всех сил старалась соблюдать закон в том виде, в каком он тогда существовал, и так, как она его для себя трактовала.
Москвичка из приличной семьи, перешедшая на сторону красного террора, Наталья Рославец была взрослой, опытной 31-летней женщиной, если и не полностью отдававшей себе отчет в том, что происходит, то по крайней мере искренне убежденной, что это происходит во имя блага народа и его светлого будущего. В отличие от наших героев она действительно была настоящим профессионалом, но только в «революционном» смысле слова – лишенным внешних проявлений эмоций, чувств, симпатий и антипатий, но искренне и глубоко ненавидящим всех, кто не с большевиками, в том числе своих вчерашних единомышленников. «Кто не с нами, тот против нас!» – похоже, что для Натальи Рославец смысл революционного права заключался в этой короткой формуле. И неудивительно поэтому, что именно она настаивала на смертном приговоре Георгию Голубовскому, хотя удалось доказать его вину только в превышении служебных полномочий. Настаивала, четко и незамысловато аргументируя свою позицию:
«…Голубовский бывший анархист-эмигрант с солидным украинским революционным стажем, в начале 19-го года вступил в Коммунистическую партию (на Украине).
Это обстоятельство лишь отягчает его вину, которую следует формулировать как сознательное, а частью и корыстное, способствование бандитской шайке анархистов подполья.
Принимая во внимание все вышеизложенное, предлагаю подвергнуть Георгия Григорьевича Голубовского, слушателя Академии Генерального штаба, бывшего комиссара штаба 46-й дивизии к Высшей мере наказания, а за отменой расстрела, заключить в концентрационный лагерь до конца гражданской войны.
16/II-20
Нат. Рославец»[95].
На следующий день, 17 февраля, Коллегия МЧК (ее высший совещательный орган) утвердила предложение Рославец и окончательно определила судьбу мужа Люси: «Голубовского Георгия Григорьевича заключить в концентрационный лагерь на все время гражданской войны»[96].
Можно сказать, что Жоржу невероятно, сказочно повезло. Ровно за месяц до приговора чекистов вышло совместное постановление ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 17 января 1920 года «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». В ничтожную временную лазейку шириной в три с половиной месяца – это постановление было отменено уже 4 мая – и умудрился попасть муж Люси Голубовской. К тому же в лагерь, что было бы практически равносильно смерти, его сразу не отправили[97], и Жорж продолжил сидеть в Бутырке, объявив, по давней дореволюционной традиции, голодовку протеста, поскольку считал приговор несправедливым и незаконным. А очень скоро на Лубянку, на имя председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского поступило заявление от однокашника Голубовского по едва начавшейся учебе в военной академии, слушателя ее младшего курса Всеволода Юрьевича Рославлева.
Заявитель доводил до сведения всемогущего ФЭДа, как его называли в ЧК, что Георгий Григорьевич Голубовский является профессиональным революционером аж с 1905 года, обладающим не только огромным опытом подпольной работы, но и внушительным списком заслуг перед революцией.
«Коллегия В.Ч.К. не умела или не пожелала принять в соображение, – писал Рославлев, – что:
1) Тов. Голубовский достаточной давности коммунист;
2) Был анархо-синдикалистом зарубежного толка, а не российским бандо-анархом; <…>
5) Живя на Украине и приехав после взрыва в Леонтьевском переулке, приписанного сначала белым и случившегося в бытность его в пути, не мог быть ориентирован в позиции московских анархов к Советской власти…»[98]
И так далее – всего восемь пунктов.
Свое заявление, написанное в стиле пылкого выступления перед внимающей ему аудиторией (оно и сегодня читается на одном дыхании, чему способствует прекрасный каллиграфический почерк слушателя младшего курса), Рославлев завершил пламенным сообщением в адрес Дзержинского:
«Вынесенное же Коллегией М.Ч.К. от 17 февраля с. г. постановление накладывает на старого заслуженного борца революционера безмерно жестокое и незаслуженное клеймо провокатора и бандита, сообщника такого гнусного и подлого, субъективно и объективно контр-революционного элемента, как московские анархо-бандиты подполья.
Тов. Голубовский подает на Ваше имя отдельное от себя заявление, а меня просит на случай, что его объявление будет задержано, выступить перед Вами в защиту его революционной чести»[99].
Прекрасный, возвышенный, патетический финал этого заявления должен был, по мысли подателя жалобы, произвести впечатление на Железного Феликса. Судя по тому, что была назначена дополнительная проверка, ожидания оправдались. Но на что еще рассчитывал Всеволод Рославлев, готовя эту бумагу?
Надо сказать, что сам заключенный Голубовский, подавая и это – «отдельное от себя заявление», и все последующие, сетовал на свою горькую судьбу и досадные ошибки следствия не менее пафосно, еще более широко и подробно – как и положено в его смертельно опасной ситуации, но вот факты, цифры, даты приводил другие: более или менее совпадающие с его реальной биографией и расходящиеся с версией Рославлева. Откуда же черпал вдохновение Всеволод Юрьевич?
Можно предположить, что из собственных фантазий. Из головы, которая на тот момент уже была полностью вскружена и не вполне ясно воспринимала действительность. Он старался помочь Голубовскому, но плохо запоминал, что именно ему рекомендовали писать, ибо мысли его были далеко от Бутырской тюрьмы, от здания ВЧК на Лубянке и от Москвы вообще. А вот Наталья Алексеевна Рославец, которой пришлось письменно отвечать на вопросы вышестоящего начальства, затеявшего разбирательство по жалобе Рославлева, была холодна, собранна, сосредоточенна. Причину вдохновения своего почти однофамильца она вскрыла хирургически точно и, отвечая руководству ЧК, не стеснялась в выражениях: «Всеволод Рославлев, любовник жены Голубовского, дал ей слово заботиться без нея – она уехала на юг – об ея муже и смягчать ея участь. Он пишет свой протест в уверенном тоне, как старый друг Голубовского, между тем, он его даже в лицо не знает и никогда не был с ним знаком, о чем пишет ему в тюрьму: “Жалею, что не знаю Вас лично и не помню даже в лицо”». Далее Рославец перечисляет факты, полученные ранее на следствии: «…комиссар штаба 46-й дивизии Голубовский был в связи с анархистами, привез их в Москву в своем вагоне (так в документе. – А. К.), рекомендовал… в качестве жильцов…»
Беспощадно, предложение за предложением Рославец уличает Рославлева во лжи. Вопросы к ней, как говорят администраторы, «были сняты». А вот к слушателю академии они, наоборот, появились, и его это отнюдь не обрадовало.
В начале марта 1920 года Всеволод Юрьевич уже сам был вызван на допрос. В МЧК он подтвердил, что писал заявление на имя Дзержинского о невиновности Голубовского, но признался и в том, что исказил в этом письме фактические данные – по незнанию. Несмотря на то что они – Голубовский и Рославлев – действительно являлись однокурсниками, в академии они не успели встретиться ни разу и даже не знали друг друга в лицо. Их первое рандеву состоялось всего несколько дней назад – 25 февраля, когда Всеволод Юрьевич принес в Бутырку передачу для Георгия Григорьевича по просьбе его жены Люси. И жалобу в ЧК Рославлев написал под ее влиянием. А сейчас, по прошествии некоторого времени, оставаясь убежденным в невиновности Голубовского, он, Рославлев, заново осознавая все произошедшее, «…его на поруки не взял бы ввиду малого личного знакомства с его прошлым»[100]. Причина же, по которой Всеволод Юрьевич поначалу столь рьяно встал на защиту совершенно неизвестного ему человека, Натальей Рославец в ответе Дзержинскому указана была верно: Голубовская и Рославлев были любовниками.
Владимир Воля, выпущенный из ЧК после двадцатидневного ареста[101], из военной академии был отчислен и в январе 1920 года отправился обратно: на юг, на фронт, на Украину. Неясно, вместе с ним ли, но, во всяком случае, одновременно – 27 января туда же отправилась и Ольга Голубовская. Добираться ей пришлось около месяца, и на всем протяжении пути за ней вслед неслись (если так можно сказать, учитывая темпы передвижения в 1920 году) письма от влюбленного слушателя военной академии. Но, прежде чем лечь в сумку почтальона, эти послания ложились на стол Натальи Рославец, а затем их копии аккуратно подшивались к делу Георгия Голубовского. Всего таких копий в деле накопилось немало: шесть листов формата А4 – с оборотами, исписанными аккуратным бисерным почерком[102]