Читать онлайн Мама бесплатно
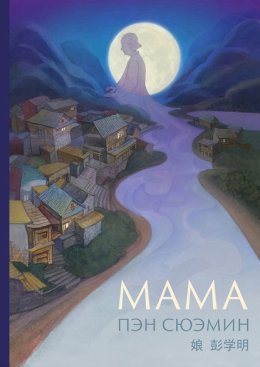
Глава 1
По обе стороны дороги тянулись поля, за ними маячили холмы. По холмам и полям мама несла меня до самой деревни, обнесённой частоколом.
Деревня была небольшая, перед ней росло несколько старых деревьев. Амбровых. Высоченных. Таких, что не обнять и целому хороводу. Стояла осень, земля была вся усеяна листьями. Такими золотисто-красными. Такими золотисто-жёлтыми. Мама ступала по ним – листья тихо шуршали. Из чьих-то ворот выбежала собака и залилась звонким лаем. Мама выдернула бамбуковую палку из плетня у дороги и стала отгонять её. Та, отступая, принялась звать товарок. Вся деревня потонула в их суматошном лае. Люди начали выходить из домов и, увидев знакомое лицо, с лаской и нежностью приветствовали маму. Самые нетерпеливые выбегали за околицу ей навстречу. Увидев, что хозяева ничуть не чураются незнакомки, псы тоже приветливо замахали хвостами. Некоторые, сбившись в стороне, как нашкодившие дети, молча смотрели на людей. Все потянулись в сторону мощённой каменными плитами дороги. Шли и болтали.
У колодца мама опустила меня на землю, и все, кто стирал там бельё, мыл овощи, набирал воду, все, кто шёл с ней деревенской дорогой, окружили меня плотным кольцом. Каждый, сияя от радости, норовил ущипнуть меня за щёчку, потрогать за носик, потянуть за ушко – чьи-то руки даже тянулись к моей маленькой пипке.
– Да! когда уходила, был ещё совсем младенчик, а теперь вон какой вымахал! Прямо пузырёк! Вот Цзяюнь растяпа!
Деревенские судачили на все лады, перебивая друг друга.
«Пузырьками» у нас на западе Хунани[1] называли дикие ягоды, размером с зёрнышко кукурузы, ярко-алые, невыразимо сладкие. Спелые, они отливали сочным блеском, и сквозь тонкую кожицу проглядывал наполнявший их красный нектар. По вкусу они немного напоминали клубнику, но были намного меньше и намного слаще. Самые спелые покрывались тёмным налётом. До сих пор мне кажется, что это самая вкусная ягода на свете. В третьем месяце по лунному календарю вызревали первые яркие шарики, в пятом появлялся урожай середины лета, а к девятому-десятому месяцу кусты обсыпало новыми «пузырьками», похожими на овечий помёт. Это была дикая ежевика. Когда говорили, что кто-то похож на «пузырёк», это был комплимент – «красивый, милый, нежный, как спелая ягодка».
Цзяюнь, о котором толковали деревенские, был мой тятька. Мама пришла в деревню, чтобы стребовать с него денег. Мама и тятя разбежались врозь, когда я ещё даже не появился на свет. Как говорили в городе, «расторгли брак». Когда они разошлись, тятя не дал ей ни юаня. Маме было так тяжко, что она пошла к нему с последней надеждой.
Мама достала из колодца черпак воды и напоила меня. Мы целый день провели в пути, рот ссохся от жажды. Это была первая вода родных мест, какую узнали мои губы. Тогда я не понимал, как сладка эта вода. Когда я вырос и вернулся домой, я понял, как она хороша.
Кто-то из толпы закричал:
– Эй, Цзяюнь, выходи! твой сын здесь! кума сына принесла!
Цзяюнь давным-давно услышал, что на улице что-то происходит. Он жил совсем недалеко от колодца. Всего через поле. Оно всё было покрыто золотящимся рисом.
Тятя стоял у ступеней дома и глядел на нас издалека поверх сверкающих посевов. По рисовому полю пробегали мягкие волны, и тятино сердце поднималось и опускалось вместе с ними. Мама говорила, что он радовался. И что он боялся.
Заметив, что тятя не двигается, кто-то стал кричать:
– Эй, Цзяюнь, чего ты там встал, чего не идёшь?
Толпа вторила ему:
– Ну иди же скорей!
Тятя медленно подошёл к колодцу и с улыбкой посмотрел на меня. Потом он нерешительно поглядел на маму.
Деревенские зашумели:
– Чего смотришь, Цзяюнь? Сын-то вон какой большой вырос, что же ты его не обнимешь?
Тятя с глупой улыбкой тёр руки о бока, словно собирался обнять меня, но так и не обнял.
Потом он бросил беспокойный взгляд на маму и обернулся. За ним была бамбуковая рощица. В рощице прятался дом. Там жили младший брат тятиного отца и его жена. Все знали, что тятя хотел убедиться – их нет дома. Он боялся, что им не понравится то, что он собирался сделать. Хотя зелень бамбука окутывала всё густым толстым слоем, тятя боялся, что их взгляд окажется острее, чем можно подумать.
Мама знала, о чём он беспокоится, и, указывая на тятю, сказала мне:
– Кликни его, это твой тятька.
Я посмотрел на тятю и слегка улыбнулся.
Мама снова сказала:
– Кликни тятю.
И я пролепетал своим детским голоском то, что она хотела.
Тятя залился краской и с прежним страхом посмотрел на возвышавшийся в рощице дом.
Народ стал ругать тятю:
– Чего боишься? Своего сына знать не хочешь? Скорей бери, обними его!
– Ну в самом деле, где ты возьмёшь себе другого такого? А ну обними сына, авось он тебя не съест!
Тятя опять бросил беспокойный взгляд на рощу, сделал глубокий вдох, собрал всё своё мужество, подошёл к бамбуковой корзинке, где я сидел, и наконец обнял меня. Потом он расцеловал меня всего.
Это был единственный раз, что тятя меня целовал.
И мама, и тятя плакали.
Когда мы вошли в дом, тятя сразу бросился варить для нас с мамой кашу. Дядька Вэньгуй принёс из своего дома два куриных яйца. В те времена великой бедности два яйца стоили нынешних роскошных обедов. Люди поглядывали на меня и говорили с мамой. Её давно не видели в деревне, все хотели сделать ей приятно. Деревенские были сильно растроганы тем, что она сумела вырастить меня таким славным карапузом. В нашей деревне все были друг другу родственники.
Вода ещё не закипела, как тятю кликнули из дома дядьки, и он ушёл.
В семье его дядьки не было детей, и тятя по собственному почину взялся кормить его.
Народ кричал:
– Вооот! Цзяюнь как флюгер, верит своему дядьке и его жёнушке.
– Уж не знаю, с чего это Цзяюнь так боится своего дядьки да своей тётки! Уж не знаю, что там они ему сделают!
Рис сварился, а тятя так и не вернулся.
У него, конечно, был и свой дом. Но поскольку у дяди не было детей, тятя жил с дядей и его женой. Тятин дом был рядышком, всего в нескольких десятках метров ниже по холму.
Прошло немало времени, и наконец тятя спустился с холма. В нём бродило что-то, как в котелке на огне. Он молчал.
Люди спрашивали:
– Что сказала тебе тётка?
Тятя молчал целую вечность. Наконец он произнёс:
– Ребёнок мой. Оставь сына здесь.
Мама ответила:
– Нет, по суду он мой.
Тятя сказал:
– Пусть так, всё равно он мой. Если оставишь сына у меня, я отдам тебе все деньги за два года. Если нет, не получишь ничего.
Мама растерялась:
– И что, суд для тебя ничего не значит?
– Это не в счёт, я передумал.
– Такое не лечится.
– К чёрту, сын мой.
– Как ты его кормить-то собираешься, недоросль? Ребёнку молоко нужно.
– Парню уже два года, прокормится.
Тут мама не выдержала и заплакала:
– Прокормится? Чем ты его кормить-то собираешься? Из куриной кормушки или из свиной лоханки? У тебя на шее двое старых да двое малых, где тебе всех прокормить! Не дам тебе его уморить.
Двое малых, о которых толковала мать, были мои единокровные брат и сестра, тятины дети от другой женщины.
На самом деле всё это время они стояли рядышком и наблюдали за мной с нескрываемым интересом. Шестнадцать лет спустя мой старший брат и моя старшая сестра были давным-давно в могиле.
Помня об этих детях, мама специально купила для них пакетик карамели.
Когда она отдала им конфеты, они просияли от радости: «Спасибо, мама». В те годы съесть карамельку случалось реже, чем отметить Новый год.
Тятя, конечно, растрогался, но, гневно сверкнув глазами, заорал на детей:
– Ваша мать покойница! А ну отошли отсюда!
Дети послушно встали в сторонке.
Мама сказала:
– Что бузишь? Два года их не видала, купила им сладенького, чего орать-то?
Тятя ответил:
– Оставь их в покое, отдай мне малого.
– Своего сына, тебе? Тебе его не прокормить.
– И меня в покое оставь, прокормлю.
– Не прокормишь.
– Прокормлю.
– Точно не прокормишь.
– Точно прокормлю.
Пока мама и тятя препирались, тятина тётка вышла из дома и завизжала:
– Прокормим или нет – это наше дело, У, не твоё! Ты этого выблядка оставила! Подавись ты своими деньгами, чтоб ноги твоей больше здесь не было! Хошь – удави его хоть сейчас, нечего нам тут мозги морочить!
Люди стали уговаривать маму:
– Оставь мальца Цзяюню, так хоть что-то с него получишь. Слезы катились градом по маминому лицу. Она зарыдала в голос:
– Не прокормить ему моего мальчика! Столько лет с ним провожжалась, разве я не знаю, что он за человек? Да пусть он и будет об нём заботиться, эти-то его не пожалеют.
Все поняли, что она имела в виду тятиного дядьку и его жену.
– Будет тебе, это ж его кровинушка, какое дело, станут ли они о мальце заботиться. Пусть бы он заботился и то ладно.
Мама сказала:
– Об одном позаботится, да другое упустит. Лучше уж я сама. Если я его им оставлю, меня рядом не будет – ни взглянуть, ни обнять, зачем мне это?
Люди снова принялись убеждать её:
– Да и без тебя твоим останется. Вырастет, всё равно тебя помнить будет. Куда тебе одной тащить на себе столько детей, оставь его Цзяюню – тебе же проще.
– Да знаю я, – ответила мама, – не сын тебе нужен, Цзяюнь. Денег тебе жалко, восемнадцати лет своих кровных. А если тебе самому не жалко, так, значит, этих двоих жаба душит. Ну их, деньги, Цзяюнь, бог с тобою, не надо мне ничего. Даже если мне побираться придётся, я и на то согласна.
Сказав это, мама посадила меня обратно в корзину, взвалила её на спину и пошла прочь.
Люди зашумели у неё за спиной:
– Цзяюнь, дело-то уже к ночи, что ж ты их не пустишь переночевать? Им ещё столько без еды топать!
Тятя ухватился за корзину и потянул её назад.
Мама резко, как подрезанная, рванулась вперёд.
Они вдвоём чуть было не вытряхнули меня наружу.
Я испугался и громко заплакал.
В этот напряжённый момент тятя выхватил меня из корзины и сжал руками, как железным обручем. Мама попыталась вырвать меня, но не смогла.
Тятя закричал:
– Хочешь идти – уходи, сын останется со мной!
Мама закричала в ответ:
– Где ж ты раньше-то был, а? Сын уж вон какой, тут тебе надо стало?
– Моё – мне и надо!
– Мой он, по суду, к тебе никакого отношения не имеет!
– Как никакого отношения, а что ж ты с меня хочешь-то?!
– По суду хочу! Восемнадцать лет ты платить должен! Если не хочешь, то и чёрт с ним, не надо мне ничего!
Они ругались и тянули меня в разные стороны, и я плакал всё громче и громче.
Мне не было уже никакого дела до тяти, я ревел белугой и хотел к маме.
Все рыдали вместе со мной.
Люди стали кричать:
– Отпусти его, Цзяюнь, нечего сына пугать! Верни его куме, судьба ему быть с ней!
Наконец тятя с большой неохотой отпустил меня. Слёзы разочарования выступили у него на глазах.
Мама, словно боясь, что меня опять отнимут, взвалила корзину на спину и пустилась бегом.
Тятя заливался ей вслед:
– Куда понеслась? Хочешь идти, хоть поешь сначала!
Мама, не оборачиваясь, кричала в ответ:
– Чёрт с ней, с твоей едой! Не надейся меня поймать!
Тятя бежал за ней с плошкой дымящегося риса.
– Хоть возьми на дорожку!
Мама уносилась прочь:
– Иди к чёрту, я к тебе не за рисом пришла!
Наконец тятя остановился. Замер. Он глупо смотрел вслед удаляющейся маминой спине.
Мама бежала всё быстрее и быстрее, все шестнадцать долгих лет.
Потом, задним числом, деревенские говорили маме, что она тогда поступила правильно. Если б я остался на руках у тяти, то непременно бы умер – не от болезни, так от голода. Моя старшая сестра умерла семи лет от роду. Тятя тогда редко бывал дома – он работал столяром в производственной бригаде, детьми никто не занимался. Сестра заболела, слегла, и за целый месяц никто так и не догадался отвезти её в больницу. Деревенские говорили, что если б я действительно остался, то меня, скорее всего, ждала бы такая же судьба.
Мама спасла меня в самый страшный момент моей жизни.
Глава 2
Деревня называлась Аоси. Это была горная деревня туцзя[2] в десяти с лишним километрах от уездного города Баоцзин на западе Хунани.
Про то, что случилось тогда, я почти ничего не помню. Помню только колодец, старые деревья, землю, усеянную листьями, и лучше всего – как я плакал навзрыд, когда мама и тятя вырывали меня друг у друга. Не знаю, когда по науке дети начинают всё помнить, но все эти мелочи, все подробности были мои собственные, а не рассказанные мне потом деревенскими. Я всегда буду их помнить. Это первые воспоминания, оставшиеся у меня от мамы и от деревни.
Когда мама со мной ушла из родных мест, начались долгие годы скитаний, и в моей жизни появилось несколько постоянных точек, неизбегаемых ориентиров. Все мои будущие сражения с мамой вертелись вокруг них.
Уезд Гучжан был самым маленьким во всей Хунани. И сейчас в нём живёт дай бог сто тридцать тысяч. Несмотря на его малость, там из года в год рождалось немало одарённых природой людей. Я родился в Баоцзине, но вырос в Гучжане. Гучжан был такой маленький, что вошёл в пословицу. Городки с ладошку, улицы с пальчик. Когда в одном доме начинали готовить обед, пахло на весь городок. Когда кто-то пускал ветры, воняло на каждой улице. Мой приятель Янь Цзявэнь говорил: едва водитель въедет в городок, он должен сразу жать на тормоз, а то рискует проскочить его насквозь и не заметить. В уездном центре не было центральной площади. Когда в местной школе устраивали стометровку, на последнем рывке перед финишем школьники, не успев затормозить, залетали на соседские огороды. Неотъемлемой частью гучжанской жизни был, да и до сих пор остается висевший на столбе громкоговоритель. В семь утра, в полдень и в шесть вечера он начинал транслировать новости Центрального народного радио. Заслышав первые звуки передачи, весь городок обращался в слух. Несколько поколений его обитателей сверяли свою жизнь с этими звуками, повинуясь им как горну в военной части. Наверное, этот громкоговоритель – единственный оставшийся в живых прибор уездной радиостанции, достойный статуса национального культурного наследия.
Первая деревня в моей бродячей жизни называлась Чэтуку. Это было маленькое местечко в уезде Гучжан, рядом с деревней Байцзя и селом Дуаньлун.
В шестидесятые годы прошлого века все сёла и посёлки назывались народными коммунами, деревни – производственными бригадами высшей ступени, а меньшие звенья – просто производственными бригадами. Чэтуку была производственной бригадой. Название местечка было местным, на языке туцзя, и значило оно «безводная земля». На самом деле в тех местах воды было даже в избытке и пастбища были тучны. Чэтуку со всех сторон окружали холмы, между ними пряталась долина, покрытые жирной грязью поливные поля. Несколько десятков му[3] рисовых полей! Прорезая посевы, бежал разлом, полный воды, и этой воды хватало, чтоб поливать все поля по обе стороны от него. Когда мама выбирала себе жениха, ей так запали в души эти пашни, окружённые со всех сторон холмами, что она только потому согласилась на его сватовство.
Рисовые поля расстилались золотисто-жёлтым простором, и осенний ветер гнал по нему золотисто-жёлтые волны. Эти волны дурманили мамино сердце. Когда она увидела впервые эти поля, волновавшиеся на ветру, она увидела сияние жизни, почувствовала её духовитый запах. Колосья риса, колыхавшиеся с наветренной стороны, росли не на поле, а в мамином сердце. Мама говорила: «В тех местах было легко прокормиться, швырни горсть песка – и она прорастёт колосьями. Там было по силам поднять и тебя, и твоих двух старших сестёр». Увидев, что еды хватит, мама ничуть не раздумывая согласилась выйти замуж. И мы вместе с сёстрами, как рисовые зёрнышки, принесённые ветром, опустились на землю Чэтуку.
Мамину свадьбу я совсем не помню. Может, оттого что брак этот получился очень коротким. И про ту семью я сейчас не могу вспомнить ни одной мелочи. Самым большим прибытком от этого замужества стало то, что мама подарила мне маленькую сестрёнку, с которой мы спелись не разлей вода. Когда сестрёнка появилась на свет, мама рассталась с тем мужчиной. С моим тятей они разошлись от полной безысходности, потому что дядька со своей женой беззастенчиво лезли в их отношения. А с тятькой моей сестрёнки мама развелась, потому что не могла выносить больше его обжорства и его лени. По правде, эту точку на нашем маршруте можно было бы оставить безо всякого внимания, но поскольку судьба нашей средней сестры остановилась в этой точке, она стала казаться очень важной, наполненной особым значением.
Сестру мама родила в первом браке, с дядей Ши. Из детей средняя сестра – не считая нашей младшенькой – была самой послушной. Самым близким маме человеком. Когда сестра вышла замуж и осталась в той деревне, ей было самое большее лет семнадцать. Горный нежный бутончик. Мама говорила, что так вышло по чистой случайности. В тот день тятька её будущего зятя рубил в лесу деревья, и его придавило насмерть упавшим стволом. Когда сын увидел это, он упал в обморок. Из этого мама умозаключила, что человек он хороший и сестрице с ним никогда не придётся хлебнуть горя. Так мой зять, не потратив ни юаня, вернулся домой с невестой. Может быть, тому была ещё одна причина. Мама хотела, чтобы сестра оставалась у неё под присмотром, в той же деревне. Во-первых, она бы помогала управляться со мной и нашей младшенькой, а во-вторых, так мама сама могла бы за ней приглядывать, чтобы её не забижали. Сестра всегда была чересчур покладистой и скромной, но с мамой никто бы не осмелился её гнобить. На самом деле это опрометчивое решение принесло сестре немало горя. Она заплатила суровую цену за мамино легкомыслие. Потом, как бы я ни старался описать это в своих дневниках, мне не под силу было выразить всю тяжесть того, что выпало на её долю.
Я не знал, как мама разошлась с новым мужем. Для меня, мальчишки, от этого времени осталась одна белоснежная пустота. Я совсем не понимал, что у взрослых зовётся женитьбой. Но сколько бы ни прошло времени, сколько бы слоёв житейской суеты ни покрыло прошлое, я всё помнил тот день, когда маму жестоко избили в производственной бригаде.
На западе Хунани у каждой бригады был свой огромный амбар, деревянный. Всё, что собирала бригада, отправлялось туда. Перед амбаром была большая площадка, на которой молотили зерно. Вся она была вымощена голубовато-серым камнем. Туда часто ходили взрослые, но не они одни. Это было любимое место детворы. Площадка была велика, просторна, взрослые часто собирались на ней потравить разные байки и небылицы, пели горные песни. Дети бегали туда и засветло, и затемно, часто по делу, а ещё чаще – безо всякой нужды. Играли в прятки, соревновались кто быстрее, бесились почём зря. Осенью, когда взрослые притаскивали с полей рис, кукурузу, просо и сою, всё сваливали грудой на площадке. Кучи вздымались, как горы, и всё покрывали, как травы. Было очень красиво.
Тогда все работали в сельхозкоммунах, всем коллективом. По утрам начальник бригады выходил из дома и начинал громко кричать, что пора на работу. Люди группками появлялись из ворот и тянулись на гору или в поле. Кто-то вёл волов или нёс на плече плуг, кто-то тащил за спиной корзинку или волок мотыгу. Мужчины пахали и боронили. Женщины пололи и сеяли. Мужчины тащили рассаду. Женщины сажали. Начинали с рассветом, заканчивали на закате. Как школьники, стайками спешившие на уроки и стайками возвращавшиеся с занятий. Работали тяжко, но слаженно. Самые бойкие выходили из дома, едва заслышав крики бригадира. Не особо бойкие долго волынили и подтягивались спустя время, достаточное, чтоб выкурить пару трубок табаку. За работой они только и думали как от неё увильнуть, постоянно делали вид, что им нужно напиться или, наоборот, облегчиться, зато с работы бежали первыми, закинув за спину плуги и мотыги, чтобы скорей укрыться дома. Мама всегда высмеивала таких работников. Говорила, что они «работают как лямку тянут, а уж бегут с работы как стрелу пускают».
В тот день все вышли молотить рис. Обмолоченные зёрна раскладывали сушиться на площадке перед амбаром, остатки высились маленькими золотистыми холмиками по краям. Я играл с ребятами на площадке. Не помню, как так вышло, но мы поссорились и начали драться. Я тогда был сильный малый – меня и нескольким было не одолеть. К нам подбежали взрослые, меня выдернули из клубка дерущихся, и я полетел вниз по холму под площадку. Холм был высотой метров десять с лишним, я покатился с него, как обрубленная палка, и воткнулся прямо в жирную землю. Хорошо, что поле было залито водой, – мягкая грязь обволокла мои ноги и сохранила мне жизнь. Я совсем обалдел от страха и лежал в полуобмороке, погребённый под слоем грязи, позабыв заплакать. Но мама взвилась как безумная. Она отбросила деревянные грабли, которыми ворошила рис, подбежала к самому краю площадки и, заголосив, ухнула с холма. Мама вытащила меня из грязи и вынесла на спине на край поля. Потом она, как полоумная, накинулась на ту бабу, которая сбросила меня с холма. Обезумев, люди становятся удивительно сильными. С ног до головы перепачканная грязью, мама сбила с ног ту толстуху. Её тонкие руки, как железная скоба, сдавили горло женщины, так что она начала задыхаться.
Голося, они сцепились вместе. Это был самый крутой боевик, какой видали в нашей деревне. Все побросали работу и побежали смотреть, как две женщины катаются по зерну и матерят друг друга. Они разметали весь рис, что сушился на подстилках. Те золотистые кучи, что высились по бокам и только и ждали, пока их разложат на просушку, зашатались, просели и рассыпались по земле. Ругательства пулями вылетали из губ и сыпались, как рис, нескончаемым потоком. Муж той женщины и её дети прибежали ей на подмогу. Маму чуть было не забили до смерти. Если бы народ не вмешался, не оттащил бы всю эту компанию, её бы точно отправили на тот свет. Моя средняя сестра тогда была ещё маленькая, от испуга она подняла дикий рёв. Когда сестра, собрав наконец всё своё мужество, поспешила маме на помощь, муж той бабы набросился на неё, как орёл на цыплёнка, и отшвырнул её очень далеко.
Мама была вся заляпана грязью. Она лежала на площадке почти без сознания, её едва смогли дозваться. Зёрна риса облепили её, как муравьи, подобрались к самым уголкам рта. Как вязанка свежескошенной полевой травы, мама скукожилась под палящим солнцем, сжалась в комок. Она едва дышала. Под солнцем кровь запеклась на ней чёрными пятнами, какие, бывает, выступают на сушёном батате.
Потом, задним числом, деревенские говорили маме: «Что ж ты дура такая, куда тебе, бабе, было одолеть целую семью народу?»
Мама отвечала: «Ради сына я бы и с десятью схватилась!»
Глава 3
Дольше всего в наших скитаниях мы пробыли в коммуне Цзятун, в местечке под названием Шанбучи. Это была самая важная точка на моём пути. Самое важное воспоминание. Все мои детские и юношеские горести, вся ненависть, вся радость, вся сладость начала жизни были там, куда я часто возвращался во сне; просыпаясь, плакал горячими слезами.
Шанбучи было названием на языке туцзя. Не знаю, что оно значило по-китайски, знаю только, что это была самая дальняя деревня в уезде Гучжан, на Западе Хунани.
Деревня была небольшая, дворов тридцать. Почти все там были или из семьи Тянь, или из семьи Цзинь. Ещё были одни Куны.
Когда мы очутились в Шанбучи, мне было уже шесть и я мог бегать по горам куда вздумается. Нас встречал отчим и несколько других людей. Барабанов и гонгов не было, только унылая цепочка путников тянулась по высоким холмам.
Это был четвёртый брак моей мамы.
Первый раз она вышла замуж за дядю Ши из Халечэ близ села Дуаньлун, что в уезде Гучжан. Родила мою старшую сестру, среднюю сестру и старшего брата. В конце пятидесятых – начале шестидесятых страна не вылезала из авантюр Большого скачка и стихийных бедствий. На начало шестидесятых пришлись три года великого голода. Весь Китай сидел с пустыми карманами. Люди были похожи на ходячие мощи. Худые, как хворостины, они никогда не ели досыта. Чтобы прокормить двух сестёр и братца Идуня, мама ушла от дяди Ши и вышла замуж за моего тятю. Дядя Ши был высоким и крепким, занимался портняжным промыслом. По всему маму ждало с ним большое счастье, но счастья не вышло. В голодные годы никто не ходил к портному. Вся семья голодала, как и другие. В горах поели все дикоросы и обглодали деревья. Выхода не было. Мама собрала детей и решила уйти.
Мама рассказывала, что аппетит у дяди Ши был поразительный. Жидкой каши, что ей удавалось настряпать, едва хватало ему одному. Мама взяла детей и пошла искать лучшей доли. Так и получилось, что она вышла замуж за моего тятю. Мой тятя был плотник и мастер на все руки. В голодные годы всё его мастерство, как и портновское, ничего не стоило, но в его деревне земля давала хороший урожай, несмотря на засуху. Мама говорила, что прокормиться там было много легче, чем в родной деревне моих сестёр и старшего брата. К тому же в той деревне все люди были друг другу кровные родственники, в голодные годы они разводили кур, сажали что-то по мелочи. Никому не приходило в голову донести на других. Деревенские всё равно недоедали, но на огурцах жить было легче, чем совсем без них. Потому, когда кто-то заговорил с мамой о моём тятьке и его деревне, она решила посоветоваться с дядей Ши, как ей быть. Ради детей он согласился развестись, но плакал, как младенец. Мама уговаривала его: «Не плачь, как дети вырастут, пришлю их к тебе в помощники». Дядя Ши проводил маму и детей до околицы.
Мама не солгала. Как только тяжёлые времена отступили, она отослала старших брата и сестру обратно к дяде Ши.
В третий раз мама вышла замуж за тятю нашей младшенькой. Так получилось, что у меня было пятеро единоутробных братьев и сестёр, и ещё двое – от моего тятьки. Все эти семейные связи выглядели смехотворно сложными и запутанными.
Мама надеялась, что сможет как следует позаботиться в Чэтуку о своей средней дочери, но вышло так, что она не только не сумела облегчить ей жизнь, но, наоборот, добавила ей немало хлопот. Сестра вышла замуж в совсем нищую семью. Она никак не могла помогать нам с мамой, но сердце у неё было жалостливое – сестра готова была сама не есть, не пить, лишь бы нам было хорошо. Но муж её, конечно, не мог сидеть без еды и одежды. А потому он частенько её поколачивал. Мама не хотела становиться обузой. Она оставила сестру одну, забрала детей и вышла замуж в забытую богом деревню Шанбучи. Так начался её четвёртый брак.
На этот раз она и правда забралась далеко. Так далеко, что и за день было не дойти до места. Горы там и правда были высоченные. Такие, что при взгляде на них начинала кружиться голова. Мама застыла в этом браке, как облачко, подвешенное в высоком небе. Вверх по склону шагали ноги, а нос почти упирался в крутую дорогу. Вниз сбегала тропа, а ноги словно проваливались в глубокие овраги. Увидев эти горы, что вырастали всё выше и выше, эти обрывистые пути, что становились всё круче, эти густые заросли, завлекавшие в свою глубину, я пришёл в неописуемый ужас и заплакал. Один из тех, кто шёл с нами, опустился на корточки и взвалил меня на спину. Мама несла на спине сестрёнку. Так мы полезли в гору. Тот человек, что нёс меня на спине, был мой отчим, который спустился из деревни встретить маму и детей.
Его звали Цзинь. Он был из деревни Шанбучи.
Деревня ютилась на полпути к вершине. Несколько десятков дворов, рассеянных по каменным ступеням.
На первом ярусе этой лестницы жили два брата Тяня. Рядом с их домами рос гигантский клён. На клёне сороки свили гнездо, похожее на большой совок. А рядом с клёном был здоровенный коровник производственной бригады. Перед ним стояла крупорушка. За ней тянулось громадное поле.
На втором ярусе жило больше всего народу. Больше двадцати дворов, все Тяни. С левой стороны была школа со спортплощадкой. С правой – амбар, а перед ним – ровное место, где сушили зерно. Спортплощадка была грунтовая, ужасно большая. Площадка перед амбаром – мощённая камнем, трёхъярусная.
На третьем ярусе обосновались Куны, трое Тяней и одни Цзини. Куны с Тянями жили одним хозяйством. Невероятно большим. Дома стояли на сваях. Выглядело это очень внушительно.
На четвёртом ярусе, тоже одним большим хозяйством, жили четверо братьев Цзиней. Дома у них были без свай и не так потрясали воображение, как те, что ниже. По обе стороны тянулись огороды. Круглый год там зеленели овощи. Позади поднимались до облаков горы, совершенно отвесные. Дома лепились к ним, свешиваясь со склона, как корзинка для мелкой птицы с пояса.
Была там ещё одна семья по фамилии Хуан, из бывших землевладельцев. Никто не хотел селиться с ними рядом. Их дом одиноко стоял в сторонке. Их было двое – мать и сын. Мать была совсем развалина, а сын – немой. Говорили, что они, наверное, много зла сделали в прошлой жизни. Из-за классовой принадлежности их частенько поколачивали. Помню, как несколько раз вечером тётушку Хуан выволакивали на улицу и били. Но вид у них из дома был самый красивый. Перед домом бежал полноводный ручей, вода в котором не иссякала никогда, даже в самую страшную засуху, позади дома ползли уступами рисовые террасы. Слева на небольшом расстоянии стоял дом Цзиней. Справа шумела роскошная бамбуковая роща.
Отчим был самым младшим из братьев Цзиней. У него были широкие плечи, толстые губы и короткие ноги. Роста он был совсем небольшого, почти что с сидящего человека. У него было двое детей: сын и дочь. Дочь была немая. Жили они бедно – на всю семью один дом. Уж не знаю, вызнавала ли мама что-то про то место и про ту семью до замужества, знала ли она, что природа там такая суровая, что отчим такой бедный или такой страшный. Как говорят, ласточка и та гнездо где попало не строит – почему же мама не выбрала себе места получше? Вот уж правда не знаю, что её зацепило. Может, любовь в те годы и была такая. А, может, и не любовь вовсе – есть где найти приют, и ладно.
Мама поставила нас с сестрой перед отчимом и велела называть его тятей. Мой тятька умер рано, помню, как я всё не мог выговорить непривычное губам слово. Наконец я выдавил из себя «тятя». Тогда отчим привёл своих детей и велел им называть маму мамой. Мы все были совсем дети, мы быстро послушались взрослых и быстро привыкли к новой жизни. Жили трудно, но мирно.
Но прошло совсем немного времени, и всё пошло кувырком.
У нас на западе Хунани плохо относились к женщинам, которые выходили замуж повторно после развода. Считали, что это мужья выгнали их из дома. Хотя мама взяла на себя заботу о чужих детях, на неё всё равно смотрели косо. А мы с сестрёнкой, как назло, учились лучше всех. Лучше всех по китайскому. Лучше всех по математике. Лучше всех по музыке. Лучше всех по рисованию. Лучше всех даже по труду и физкультуре. В нашей маленькой деревне мы были как первые спутники в тёмном небе. Даже в соседних деревнях все знали про двух «вундеркиндов» из Шанбучи. Про нас с сестрой, учившихся несмотря ни на что, даже рассказывали по уездному радио, громкоговорители не раз гремели про наши успехи. Соседи, усмехаясь, говорили маме: «Наши-то все как грешники, а твои-то двое как силы небесные, школу для них одних и построили». Мы учились с утра до ночи, до опупения.
Отчим сперва ужасно радовался нашим успехам. Но скоро от его радости не осталось и следа. Его дети учились из рук вон плохо. Злые люди часто нашёптывали ему: «Ты вот пашешь не покладая рук, да на что надеешься? Твои-то не выучатся, как ни крути, а ты всё её детям книжки покупаешь. Как у них крылья окрепнут, так они и разлетятся, что им будет до тебя, родимого? Так в землю и ляжешь, с пустыми руками».
Отчим подумал: а и правда. Тогда он перестал давать нам денег на книги и стал требовать, чтобы мы бросили учёбу. Конечно, мама была против. Вся её надежда была на нас двоих. Видя наши успехи, разве она могла так поступить с нами? А потому они с отчимом постоянно собачились. Кричали, пускали в ход кулаки – это было обычное дело.
Наша славная семья превратилась в поле битвы.
Поначалу мамина война с отчимом разворачивалась вокруг детей. Мама считала, что мы с сестрой были настоящие сиротки, росли без тяти и некому было о нас как следует позаботиться. Одинокие, беспомощные, лишённые всякой поддержки. Хотя у отчимовых детей не было матери, вся деревня всегда готова была встать за них горой. Все их любили, всем было до них дело. При любом пустяшном происшествии все их родственники бежали на подмогу. Конечно, мама инстинктивно пыталась нас защитить. Сдувала с нас пылинки.
Однажды, когда все обедали, мы со сводным братом поссорились, уже не помню почему. Быстро дали волю рукам. Это был первый раз, как мы подрались. Он кричал, что это его дом, а я здесь чужой и чтоб я убирался ко всем чертям. Я кричал, что он вообще здесь никто, а дом тятин. Он кричал, что тятя тоже его, а я с мамкой могу валить на все четыре стороны. Услышав это, я вскочил, чтобы выбежать на улицу. Брат решил, что я поднялся, чтоб ему врезать, и накинулся на меня с кулаками. Я с детства был спортивный малый, здорово играл в баскетбол, в пинг-понг, прыгал с шестом и в длину. Меня даже выбрали в уездную спортшколу, вот только поехать не вышло. Я ударил в ответ, подсёк его и повалил на пол.
Отчим заорал на нас, а потом взял железные клещи и решил преподать нам урок. Сначала он ударил своего сына, и тот заплакал. Когда дело дошло до меня, я не плакал. Мне было не особо больно. Тогда отчим ударил меня снова, но я всё не плакал. Увидев зарёванное лицо сводного брата, я, наоборот, улыбнулся. Тут отчим окончательно вышел из себя. Он снова схватил клещи и отдубасил меня до чёрных синяков на ногах и на плечах.
Мама знала, что отчимов сын плачет нарочно. Она сделала мне знак глазами, чтобы я тоже заплакал. Если б я заплакал, отчим перестал бы меня бить. Но я с детства был упрямым. Даже если б мне было ещё больнее, я бы всё равно не стал бы плакать. В деревне меня сильно обижали, но отчим никогда не вмешивался. Я чувствовал острую ненависть и злобу. Я не заплакал бы, даже если бы он забил меня до смерти. Другой бы на моём месте давно бы расплакался, но я стиснул зубы. Не буду плакать. Пусть бьёт!
Тут уж взвилась мама. Когда отчим снова замахнулся клещами, она грохнула своей миской об стол и, выхватив у него клещи, проорала:
– Хочешь забить его? Не твой, тебе и не жалко? Давай, что уж, забей и меня до кучи!
Маме было не справиться с отчимом. Другая его рука, как ещё одна пара клещей, вцепилась ей в запястье. Отчим прогремел:
– Сейчас эти двое долбоёбов вон что вытворяют, если не проучить их как следует, потом будет поздно!
Мама кричала:
– Так вот ты их как учишь? Одного лечишь, другого калечишь! Отчимов сын учился очень скверно, до меня ему было как от земли до неба. Отчим ревел:
– Завтра же никакой школы! Пойдёшь со всеми на работу!
– С какой это стати?
– Никого не слушает, какая ему учёба? Мне это не по карману.
– Чего тебе не хватает? Жри да пей! Что тебе не по карману?
– Нечего ему там делать, моё слово крепкое.
– А вот и нет. Ничего-то это не значит.
– И мой не пойдёт. И твой не пойдёт. Всё по-честному.
– Твой пусть не идёт, чего ему там делать. Мой парень – самородок. Он пойдёт.
Тут мама, конечно, наступила отчиму на больную мозоль. Он знал, что парень его никудышный, и смущался этого. За спиной у него люди судачили про наши успехи, и до отчима долетало немало добрых слов в наш адрес. И много худого про его сына. Отчим, недолго думая, ударил маму по лицу.
– Пусть мой без царя в голове, а твой семи пядей во лбу, всё равно он никуда не пойдёт!
У мамы была разбита губа, и кровь стекала по подбородку. Как разъярённая тигрица, она вцепилась зубами в руку отчима. Наше маленькое сражение превратилось во взрослую битву. Они сцепились не на шутку.
Когда отчим придавил маму к полу и стал дубасить, я не бросился ей на помощь, но стоял и смотрел во все глаза. В этот самый миг я понял, что всей душой ненавижу не только его, но и маму. Я ненавидел её за то, что она притащила нас с сестрой в это богом забытое место, в эту семью, в эту деревню, за то, что нас гнобили, унижали и оскорбляли.
Да, так я думал. Всякий раз, когда мама ссорилась с какой-нибудь женщиной из деревни, я слышал, как они обзывали её бесстыжей и другими позорными словами. Мне было невыносимо стыдно. Когда мои приятели, которых подзуживали взрослые, кричали мне, что я приблуда и выблядок, я впадал в неистовство. Это сильно било по моему достоинству. Моей детской душе было больно. В деревенской школе мне всегда казалось, что кто-то шушукается у меня за спиной, обсуждая меня и маму. Моя совесть была неспокойна, как у вора. Мне было стыдно перед людьми, и я часто забирался в какой-нибудь уголок и сидел там в одиночестве. В деревне разведённые женщины считались никому не нужной дешёвкой. Дешёвкой были и их дети. Я часто думал, что если бы мама не вышла заново замуж, меня бы так не унижали.
Так начались моя вражда с мамой, моё сопротивление и моё непонимание. Сперва это был уголёк, зарытый глубоко в костре, покрытый золой и пеплом, почти незаметный. Потом он выпорхнул из очага яркой искрой и погас. Потом он стал маленьким светлячком, сверкавшим и гаснувшим во тьме. В конце же он разгорелся ярким пламенем, сжигавшим с шипением моё сердце.
Когда мама сделала мне знак, чтобы я заплакал, я не думал, что она делает это из жалости. Я думал, она спелась с отчимом. Зачем бы я стал плакать? Для меня это было притворство. А я ненавидел притворство! И мама, и учитель всегда требовали от нас честности, почему же сейчас она хотела, чтоб я хитрил? Не стану! На самом деле мне уже было очень больно, но я не хотел показать этого. Потом от ударов у меня на плечах и на ногах расцвели фиалкового цвета пятна. Отёк не спадал много дней. Может, раны на сердце были так глубоки, так тяжелы, что мне не было и дела до синяков на теле.
Эти раны нельзя было нащупать, нельзя было увидеть. Все они были на мамином сердце. Её раны, как зеркальце, отбрасывали на солнце сверкающие круглые зайчики. Их свет пятнами ложился на моё сердце, и у меня рябило в глазах, пересыхало в горле, мне было нечем дышать.
Когда я возвращался из школы, то часто видел, как мама ругается с отчимом или другими деревенскими, но никогда не вникал, в чём дело. Мне всегда казалось, что она не должна была так делать, что это было неправильно. Учитель изо дня в день твердил нам о единстве трудящихся масс, а мама ругалась с товарищами. Она была неправа. Я никогда не думал о том, что не одна она целыми днями собачилась с соседями, что так поступали и все остальные. Никогда не думал, что если бы она им не отвечала, они бы всё равно не отстали. Что она всё равно навлекла бы на себя неприятности. Я всегда обвинял маму. Мне никогда не приходило в голову, что делает она это ради нас с сестрой. Мама была как старый вол, что защищает телёнка не щадя жизни. Она поступалась своим достоинством, чтобы сохранить наше. Своим горем она покупала наше счастье. Я совсем не понимал этого. Я всё думал, что мама ругается с людьми и что это позорище. Мысленно я провёл между нами черту – мама была по одну сторону, я по другую. Я считал себя неподкупным, кристально честным Бао-гуном[4], стоявшим на стороне очевидной справедливости. Оттуда я судил о правде и кривде, оттуда же судил и о маминых ошибках. Хотя я никогда не говорил ей этого в глаза, но в душе я бессчётное число раз ставил всё под сомнение, протестовал и смеялся над нею.
Глава 4
У мамы были скверные отношения с деревенскими, но я не мог допустить, чтобы у меня они тоже оставались скверными. Мне хотелось, чтобы они считали меня здравомыслящим, воспитанным человеком. Я винил маму в том, что она не сумела наладить в деревне нормальной жизни, а сам вел себя как настоящий подхалим. Завидев издали взрослых, даже тех, кто ругался и дрался с мамой, я за версту начинал их приветствовать, словно они были мне родные. К своим школьным приятелям я относился лучше, чем к родным братьям и сёстрам, несмотря на всё, что мне довелось от них вытерпеть. Как нам твердил учитель, так я и делал. Я не мог портить нашу сплочённость из-за противоречий между взрослыми. Я хотел влиться в коллектив.
К нам с сестрёнкой относились как к чужакам, к изгоям. В третьем классе дети из Шанбучи отправлялись учиться в Сябучи. В нашей деревне был всего один учитель, а потому там учились только два года. Пока первый класс был на уроках, второй делал домашнее задание – и наоборот. На третий год все отправлялись в соседнюю деревню Сябучи, ниже по склону. В Шанбучи наше с сестрой обособленное положение ощущалось не так остро. В Сябучи я узнал до конца вкус одиночества. Почувствовал себя бродячей псиной, которую гонит прочь вся деревня. Я мог опираться только на себя самого, чтобы отделаться от этого наваждения.
На самом деле деревенька Сябучи тоже стояла на горе. Просто гора была пониже нашей. Казалось, что деревни расположены совсем рядом, но дорога петляла и петляла, обкручиваясь вокруг склона, как бесконечная колбаса. В Сябучи была большая производственная бригада. Под её началом трудились четыре обычные: Сябучи, Шанбучи, Бапинъянь и Луаньжэ. Всё это были непривычные уху, чудные названия на языке туцзя. Народ придумывал рифмованные поговорки, чтобы их запомнить.
Поскольку шагать было очень далеко, дети звали друг друга и ждали, пока все соберутся, чтобы идти в школу и из школы вместе. Все очень боялись идти поодиночке. Отчимов сын никогда не разрешал мне и сестрёнке идти вместе с его компанией. Сестра ела ужасно медленно. Миску риса она жевала по полчаса, как будто играла в дочки-матери, обстоятельно и долго, никуда не торопясь. Это давало ему отличный повод избавиться от нас с сестрой. Каждое утро не успевала она доесть, как отчимов сын уже грохал о стол миской и выбегал на улицу в компании других мальчишек. За это я всякий раз нещадно ругал её. Глядя вслед убегающему сводному брату, я топал ногами от нетерпения и принимался орать: «Ну давай уже, быстрее!» Иногда я мечтал, как отберу у неё рис, не дав доесть. Сестрёнка и так никогда не доедала до конца, она роняла миску и вылетала из дома вместе со мной.
Когда мы догоняли других детей, они никогда не позволяли нам с сестрой идти рядом. Отчимов сын часто говорил с угрозой: «Ещё раз за нами пристроитесь, забью к чёрту».
Потому мы с сестрой не осмеливались идти к ним слишком близко. Мы тащились сзади, на почтительном расстоянии. Когда они оборачивались и смотрели на нас, мы останавливались как вкопанные и делали вид, что вовсе и не шли за ними следом. Когда они снова пускались в путь, мы почти бесшумно догоняли их быстрым шагом.
Я совсем не боялся драки. Я был им не по зубам. А вот сестрёнка была слишком маленькая и худенькая. Она бы не справилась. Я боялся, что её могут задеть в драке. Мне одному, всего с двумя руками, было не перебороть всех мальчишек деревни.
Не решаясь на драку, мы с сестрой тащились следом за остальными, как бродячие псы. Две маленькие собачки, со страхом и трепетом бежавшие след в след с волчатами, принявшие их за ровню. Со временем сестрёнка надоела мне до чёртиков, и я не разрешал ей идти со мной. Я сам быстрым шагом догонял остальных.
Я слишком хотел влиться в их компанию. Мне не хотелось, чтобы всё расстроилось из-за неё. Чтобы из-за какой-то сестры я потерял бы целую кучу приятелей.
Сестра только плакала.
Когда она начинала плакать, моё сердце смягчалось, я останавливался и ждал её. Даже собаки никогда не бросали друг друга, особенно малышей, и я тоже не мог оставить сестру в одиночестве, без поддержки.
Я думал, что главная причина, почему приятели прогоняют нас с сестрой, в том, что мама испортила со всеми отношения. Если бы мама была в нормальных отношениях с деревенскими, то и ребята никогда бы не стали к нам с сестрой так относиться. На всё была своя причина. Я совсем не испытывал ненависти к другим детям. Я ненавидел маму. И потом, мы с сестрой учились просто блестяще, учителя хвалили нас каждый день, дети нам завидовали. Это была моя собственная вина. Большая и неизбывная. Я должен был сам придумать, как заполнить пропасть, что пролегла между мой и приятелями. Мама не могла меня защитить. Я должен был защитить себя сам.
Когда мы играли в мяч, я специально проигрывал товарищам, чтобы они порадовались.
Когда мы бежали на скорость, я специально делал вид, что подвернул ногу, и сильно отставал от них, чтобы им было приятно.
Когда мы прыгали в высоту, я специально прыгал низко, чтобы они могли прыгнуть высоко-высоко и гордиться собой.
На контрольной я шептал им правильные ответы, а сам специально делал ошибки, чтобы их тоже похвалили.
Когда мы убирались в школе или занимались трудом, я первым брал на себя всю грязную, тяжёлую работу, чтобы мои товарищи могли немного побалбесить.
Я пресмыкался перед сыном отчима и его компанией так, что даже решил носить их на себе всю дорогу до школы и обратно. Каждый день нас ждал путь вверх и вниз по холму. По дороге в школу сначала нужно было спуститься с нашей горы, а потом подняться на ту гору, на которой стояла деревня Сябучи. Дорога была очень крутая, очень длинная, очень трудная. Ко всему, кроме длины, можно было привыкнуть. За те годы, что мы карабкались по горам, мы так свыклись с ними, что ступали по ним как по равнине. Но эта извивающаяся длина пути рождала гаденькое чувство страха при одном взгляде на неё. Мы шли, останавливались, снова шли и частенько приходили к финишу на пределе возможностей. Я думал, что это лучший шанс доказать всем, что я достоин доверия. Каждый день я нёс кого-нибудь одного вверх по склону. Иногда, когда силы покидали меня, я вставал на колени и полз наверх. Вся дорога, все пять ли[5] были покрыты скользкими, твёрдыми каменными плитами. Я часто разбивал на них в кровь колени. На камне оставались багровые следы, как маленькие лепестки, как красные губы, целовавшие нашу дружбу.
В первый день они были ярко-алыми.
На второй – тёмно-багряными.
На третий они превращались в капельки чёрной туши.
Я боялся, что сестрёнка расскажет всё маме, и решил припугнуть её, чтобы она молчала. Я не думал, что ребята, что катались на мне верхом, тиранили меня, мне казалось, что так проявляется наше взаимопонимание, наша тесная связь. Я верил, что эти твёрдые камни – ступени на пути нашей дружбы и доверия. И ещё сильнее я верил в то, что моя залитая кровью искренность способна подарить мне их неподдельную преданность.
Мои усилия не пропали даром. Теперь отчимов сын не отгонял нас беззастенчиво прочь, но просто мирился с нашим существованием.
В ответ на моё радушие ко мне поворачивались задом, и я был доволен. Мне было радостно, мне было важно, что этот зад хотя бы не срёт мне в лицо.
Ребята, которым не было особого дела до нашей со сводным братом грызни, стали намного приветливее. Дети – всегда дети, и таких расчётливых хитрецов, как отчимов сынок, никогда не бывает много. Детское лицо как июньское небо: то закапает дождик, то развиднеется. Ребята, отправляясь утром в школу, сами стали поджидать меня и сестру и звать нас с собой. По дороге домой, если было время, мы играли в камушки или в карты.
В камушки хунаньская детвора играла чаще всего. Брали семь маленьких, кругленьких окатышей. Их рассыпали на земле и выбирали биту. Подбросив её в воздух, начинали быстро-быстро подбирать с земли остальные камни, а потом запускали их вслед за битой, пока она была в воздухе. Можно было пользоваться только одной рукой. Кто не успевал схватить камушки, тот проигрывал. Хватали на определённый счёт: «на один» – значит, сперва ловили один, потом два, потом три, «на два» – значит, сперва два, потом четыре, «на три» – то есть сначала три, потом ещё три, «на четыре» – сначала два, за ними четыре, «на пять» – пять и один, «на шесть» ловили все сразу. В конце кона нужно было собрать все камушки, положить на ладонь и одновременно легонько подбросить в воздух. Потом их бросались подбирать – сколько подберёшь, столько и положишь на тыльную сторону ладони, чтоб опять подбросить их высоко-высоко в небо. Пока они летят, нужно было успеть несколько раз хлопнуть в ладоши, а потом поймать камушки. Кто упускал хоть один камушек в любом коне, считался проигравшим и должен был начинать всё с начала.
Иногда играли в «хромоножку». Поднимали вверх одну ногу и прыгали на другой по дороге – кто кого перепрыгает. Всякий раз, когда нужно было подниматься вверх по склону, мы обязательно соревновались, кто пропрыгает быстрее и дальше. Эта игра без строгих правил, без игрушек, такая простая и первобытная, всегда приносила нам огромную радость. Когда кто-нибудь больше не мог прыгать, останавливался и признавал своё поражение, все весело кричали ему: «Хромоножка!». И он с радостью откликался.
К концу игры все становились «хромоножками», а самый последний – героем и царём горы. Этим героем всегда оказывался я. Я испытывал невероятный восторг, невероятное счастье.
Но это давшееся мне так нелегко счастье очень скоро оказалось разрушено. Мамой.
В тот день после уроков мы разбежались не сразу, а решили поиграть немного в школе. Сначала мерялись храбростью, потом силой. Сперва прыгали вниз с поперечной балки под потолком. Мы забрались на неё, как обезьянки, и стали ждать, кто решится спрыгнуть первым. В итоге никто так и не прыгнул. Я один спрыгнул несколько раз. Так я стал настоящим героем.
Отчимов сын стал хлопать в ладоши и кричать «браво». «Да на что вы годитесь? Вот Сюэмин – смелый парень, просто герой».
Все остальные тоже зааплодировали.
Я почувствовал, что они приняли меня всем сердцем, и от этого обрадовался ещё больше, разошёлся ещё сильнее и благодарно улыбнулся отчимову сыну. Потом я в своём простодушии забрался на балку и спрыгнул ещё несколько раз. Не знаю, откуда только взялось у меня столько смелости залезать раз за разом на эту высоту и, не зная усталости, вновь и вновь устремляться вниз. Я прекратил, только когда совсем выбился из сил.
Быть может, это притворное принятие было для меня, стосковавшегося по пониманию и дружбе, слишком дорого, слишком ценно. Когда после долгой засухи проливается благодатный дождь, засохшее дерево вновь празднует весну.
Отчимов сын, словно бы не наигравшись, не смирившись окончательно с моей победой, предложил ещё померяться силой, поиграть в «уточек». «Уточкой» становился тот, кого в игре сшибали с ног. Он сказал:
– Ты такой мастер, попробуй нас всех уложить!
Обычно сил мне было не занимать, к тому же я только что исполнился невероятных отваги и гордости. Конечно, я не раздумывая согласился. Я уложил их всех на землю одного за другим. Даже тех, кто вдвоём накидывался на меня.
Отчимов сын увидел, что им меня не сделать, и сказал:
– Да ты просто зверь! Давай ты ляжешь на пол, а мы навалимся сверху – если сумеешь выбраться, вот это будет по-настоящему круто!
Я подумал: «Ну ладно, это как в шашках – сперва поддаёшься, потом выигрываешь, идёт! Лягу на пол, они навалятся сверху, и я снова выиграю – подброшу их всех до потолка».
Когда на меня навалились трое, я безо всякого труда вывернулся из-под них и уложил их одного за другим на землю.
Когда набросились шестеро, я немного напрягся, но всё-таки скинул их с себя и припечатал к полу.
Когда собралось больше десяти человек, я завертелся под ними угрём, но никак не мог выскользнуть на свободу.
Мы схватились намертво. Спустя полчаса я всё ещё не мог скинуть их с себя. Сестрёнка, которая наблюдала всю эту борьбу, аж расплакалась с досады. Она подбежала к нам и принялась стягивать их с меня, умоляя отпустить, но все были так погружены в радость своей победы, что просто её не слышали. Тогда сестра побежала домой за мамой.
Когда мама увидела, что меня распластали как кусок теста, её гневу не было предела. Она схватила палку и принялась дубасить моих обидчиков. Скоро их ряды поредели. Потом настал мой черёд. Мама била меня и кричала:
– Тебе сказали «спрыгни» – ты и спрыгнул, завтра скажут «жри говно» – ты и будешь жрать! Целыми днями пресмыкаешься перед ними, ползаешь как улитка! Пришибу к чёрту! Хамово отродье! Ты погляди на себя! Придурок!
Тогда я совсем не понял, что мама испугалась за меня. Мне казалось, что она делает из мухи слона и устраивает скандал на пустом месте. Я сказал:
– Мы так хорошо играли, а ты всё испортила. Что ты меня бьёшь? Что ты их бьёшь?
Мама не унималась:
– Ещё дерзишь?! Хорошо играли – прыгали с потолка, идиоты. Совсем жизни не жалко? Весело ему было, что чуть не сдох. Лучше я тебя сама пришибу, козла такого! Поглядим, весело ли тебе будет!
Когда я увидел, что мама лупит меня как сумасшедшая, я понял, что она и правда разозлилась. Я вскочил на ноги и бросился бежать. Мама бросилась с палкой за мной следом.
Спрятаться было негде. Я скатился с горы прямо в долину. Даже потерял по дороге тапки.
Мама не могла меня догнать. Она остановилась на полпути, задыхаясь от гнева, и стала орать в пустоту. Она кричала, что бес попутал её родить такое чучело, такого тупорылого недоумка, который сносит все издёвки да ещё и зовёт народ над ним поиздеваться. Кричала, что в Шанбучи все козлы, даже дети, что нет ей и её кровинушкам здесь никакой жизни.
Вечером, когда я вернулся домой, мама ещё не остыла. Она прикрутила меня к шкафу и выпорола как следует.
Делала она это не со зла. Она просто хотела, чтобы я как следует всё запомнил. Мама сказала:
– Не вздумай никого обижать. И тем более давать другим себя обижать. Угодничать, унижаться перед другими – это самое стыдное, самое позорное на свете.
Потом средняя дочка Шан Ханьин, жены младшего Куна, сказала нам, что отчимов сын это всё заранее придумал. Что он хотел от меня избавиться.
Неудивительно, что они забрались на балку, но никто так и не решился прыгнуть. Только я один, как дурак, сиганул вниз. Неудивительно, что все ребята, которые обычно так дружили со мной, в тот день навалились на меня и душили меня из последних сил.
Разве мама била меня? Нет, она лупцевала собственную душу.
Когда мама узнала, что я безбожно заискивал перед товарищами, она разозлилась ещё сильнее. Она опять привязала меня к шкафу и снова отделала как следует. Мама твердила:
– С детства надо знать себе цену.
– Будешь прогибаться, я тебя закалю как следует!
С тех пор с таким трудом стаченная мной дружба совсем расползлась по швам. Мы с сестрой опять стали никому не нужны и вернулись к своему безнадёжному одиночеству.
А ненависть сводного брата ко мне становилась всё сильнее. К маме тем более. Как бы мама не старалась сделать ему хорошо, он всё равно встречал её злобным лицом. Все детские сказки про мачеху были плохие, и мачеха в них всегда была плохая. Бессердечная, ядовитая, мерзкая, как куриный помёт.
Поэтому когда люди стали говорить отчимову сыну: «Чего ты зовёшь её мамой? Твоя мама давно умерла, давно на небе обретается. Будешь звать её мамой, так твоя родная мама не сомкнёт глаз», – он и правда перестал называть маму мамой. Иногда он даже называл её по имени[6].
Дети от природы не злые и не добрые. Вся их злость и доброта приходят от взрослых. Мама часто говорила: «С кем поведёшься, от того и наберёшься».
Когда отчимов сын перестал звать маму мамой, я тоже перестал звать его тятю тятей. Око за око, зуб за зуб. Мы жили под одной крышей, но были друг другу как чужие.
Каждый день я сидел на огромном валуне и отупело смотрел на разбегающиеся перед глазами безлюдные горы. Ястреб, который каждый день одиноко парил в небе перед глазами, был как моё сердце. В нём было пустёхонько. Бессчётным уступам не под силу было сдержать напор ястребиных крыльев. Не сдержать им было и мою тоску, моё одинокое томление. Это оно кружилось в воздухе, оно летело, прижимаясь к горным склонам. Я закрылся в этом одиночестве. Оно давало мне силу. Моя целеустремлённость росла день ото дня, пока не стала внушительной, несгибаемой, звонкой и певучей. Теперь я уже не боюсь ни власти, ни могущества, не заискиваю перед ними, не стремлюсь к ним – всё благодаря маминому уроку. Я не бегу за славой, не верю чужим словам, не вожу компанию с недостойными людьми, не страшусь зла – всё благодаря тому, что дала мне мама.
Человек с сердцем раба при всей своей молодцеватости всё равно останется презираемым подлецом.
Человек, который только и знает пресмыкаться перед другими, при всех выдающихся заслугах так и будет тряпкой.
Только если в любых делах он будет помнить про свой внутренний стержень, он станет человеком с большой буквы, внушающим благоговейный трепет.
Глава 5
Битва мамы со всеми родственниками отчима началась, когда мне было десять лет, глубокой осенью.
Эта осень была очень красива, как почти каждая осень на западе Хунани. Осень в горах, несмотря на заморозки и холодные ветры, была полна полевых цветов и ягод. Красота была повсюду. В тучной Хунани растения цвели круглый год. Эти дикие цветы гор были полны дикарского непокорства – они распускались в любую погоду, на любой земле, в любое время суток, обволакивая всё своим цветением. Алые, жёлтые, белые, розовые, пурпурные, оранжевые – они протискивались наружу сквозь зелень гор, вытягивались вверх и щеголяли своими яркими нарядами. Были робкие, стыдливые, таившие свои бутоны, были полные жгучего жара, которые брали тебя с потрохами, были сдержанные, немного отстранённые, словно застывшие в нерешительности, были серьёзные и строгие, державшиеся с непринуждённым достоинством, были и нежные, полные любви и ласки. Когда цветы, одевавшие каждую ветку и каждую травинку, опадали, на их месте появлялись плоды, на месте каждого цветка раскрывался целый фруктовый сад, горы превращались в настоящие кладовые.
Эти плоды, выходившие из недр цветов, напитанные сладкой росой и ароматом природы, были слаще и душистей любых посаженных человеком. «Пузырьки», и ранние, и поздние, дикая вишня, дикий виноград, груши-дички, мушмула, акебии[7], дикие киви, дикая малина, дикая ежевика – огромный-преогромный сад. Для детей сбор всего этого урожая неизменно превращался в одно из главных развлечений.
В тот день мы шли домой из школы и заметили, что красные «пузырьки» на кустах за одну ночь созрели, налились алым соком. Мы с торжествующими криками набросились на обвивавшую горы зелень. Это были ягоды колючего лоха, далеко не самые вкусные из диких ягод. Но поспеть успели они одни. Размером и формой они были похожи на катышки овечьего помёта, на красные бусины, густо рассыпанные по зелени гор. Налитые кисло-сладким, ярко-красным соком, они торчали, как алое вымя, и манили нас так, что рот сам наполнялся слюной.
Я точно добежал самым первым и нарвал больше всех. Когда я стрелой метнулся в самую гущу, то уже налившиеся соком ягоды, задетые лёгким движением моей руки, упали мне прямо в карманы. Ребята как рой налетели за мной следом, они рвали ягоды с кустов, вырывали их друг у друга, набивали полные рты и запихивали их в портфели. Они галдели, как стайка сорок. Один кричал: этот куст мой! Другой взвизгивал: нет, мой! Все суетились, тянули кусты на себя, и было страшно весело. Наконец все кусты разобрали, каждый устремился в свою сторону, и никто больше не задевал других. Но отчимову сыну всё не было покоя. Он кликнул нескольких детей своих родственников, и они накинулись на мой куст, захватили мои владения и мою добычу. Когда они поняли, что им меня не одолеть, они оттянули назад упругие ветки и отпустили их – удар пришёлся мне прямо по лбу. Кусты лоха покрыты колючими иголками, которые растут рядами, как зубья у пилы. Самые большие размером с мизинец взрослого человека, самые маленькие – как вышивальные иголки, невероятно острые.
Я стоял на невысоком холмике, а они выше меня, на пригорке, – ветки выстрелили мне точнёхонько по голове. Их компания повторяла свой трюк раз за разом, иголки вонзались мне в голову снова и снова, и хотя мне было больно, я делал вид, что ничего не происходит. Мне хотелось нарвать побольше ягод, чтобы угостить маму и сестрёнку. Моя душа была захвачена этой радостью. Радостью работы. И радостью её плодов. Радостью победителя.
Я не знал, что свежая кровь уже залила мою голову, лицо и шею. Не знал, что на осеннем ветру она давно загустела и покрыла меня пятнами. Я потерял всякую чувствительность. Только когда на дороге появилась какая-то тётка, они прекратили свою атаку. Она спешно вытащила немного целебной травы, разжевала её и приклеила мне на лоб. Так я был спасён.
Можно было догадаться, как удивилась и в какое бешенство пришла мама, когда, залитый кровью, я влетел в дом вместе с порывом холодного осеннего ветра. Мама заголосила и побежала за плошкой горячей воды, чтобы смыть с меня застывшие пятна. Волосы уже успели слипнуться от крови и превратиться в стальной шлем. Маме пришлось их долго размачивать. Вода в миске быстро стала красной. Словно вытекла такой из маминого сердца. Когда, смыв кровь, мама увидела, что вся моя голова усеяна обломанными иголками, она заревела, как роженица. Иголки больно жалили её душу. Она стала осторожно вытаскивать завязшие в коже иглы, но они цеплялись за волосы, и выходило очень долго. Тогда мама стала брить меня налысо.
Когда это случилось, вся деревня сбежалась на меня посмотреть. Кто-то прибежал из озорства. Кто-то прибежал из жалости. Кто-то – просто поглазеть на шумиху. Я боялся, что мама сцепится с деревенскими, что она осрамится, что они станут драться и выйдет страшное позорище. Не хотел, чтобы мои приятели толковали потом, что мама живёт с деревенскими как кошка с собакой, а потому я никак не хотел признаваться, кто сотворил это безобразие. Я говорил, что это я сам сделал нечаянно.
Детская ложь никогда не бывает шибко умелой, уши всегда торчат наружу. Мама очень быстро узнала, что всему виной отчимов сын. Она бросилась бегать по домам всех, кто приложил руку к этому «злодейству». Мама становилась у ворот и, уперев руки в боки, кричала: «Мать родила, да ничему не научила! Решили чужими руками моего сына извести? Попробуйте-ка со мной справиться, смотрите только зубы не обломайте! Вот она я, ну-ка!»
Виновные, прекрасно понимавшие, что есть за ними грешок, сперва не решались даже откликнуться. Но мама расходилась чем дальше, тем больше, и вот уже дверь открывалась ей навстречу, и оттуда вылетали яростные кулаки и брыкающиеся ноги. Народу было много, и слабая одиночка была против них не больше муравьишки.
Раны на теле матери, конечно, не могли подарить ей отчимова сочувствия. Всё это были его родные, и ради мамы он бы ни за что не пошёл сводить с ними счёты. Тем более что его родной сын был главным зачинщиком. В этой деревне все, кроме Кунов, были друг другу родственники. Деревня пряталась так высоко и далеко в горах, что народ не женился на пришлых, женщины не выходили замуж в другие места – и постепенно все переженились друг на друге, а родственные связи запутались, как клубок лозы.
Отчим не только не отругал своего сына, но, наоборот, зверски избил маму.
Мама была как неприкаянная, беспомощная овечка, доставшаяся на забаву волчьей стае, терзавшей её, пока она не упадёт на землю.
Так они и собачились изо дня в день.
Так отчим день за днём избивал маму.
В конце концов, зажатая в тиски, она решила, что ей не спасти детей, не стать им настоящей защитницей. Она решила выбрать смерть. Ей казалось, что если она умрёт, то мы с сестрой останемся сиротами и станем сынами партии и правительства. Никто больше не посмеет нас обижать. Кому это по силам? Такому быстро придёт конец.
Однажды тёмной ветреной ночью она взяла верёвку, пошла на холм за домом и повесилась.
Слава богу, мы с сестрой это вовремя обнаружили. Рыдая, мы спасли маму от смерти, с которой она вот-вот должна была свидеться.
Чтобы мы с сестрой могли спокойно учиться, мама развелась с отчимом. Две горькие тыквы с одной плети, жавшиеся друг к другу, упали на землю, отсечённые ножом судьбы, – и раскололись на части. Их горькие семена упали в почву, и из них выросли ещё более горькие побеги.
Глава 6
Мама не хотела расходиться. Она истощила всё своё воображение, пытаясь хоть как-то поправить положение.
Она и так уже разводилась трижды, и если б развелась ещё раз, то что бы тогда стали говорить деревенские? Никто бы на неё не взглянул. К ней бы относились как к грязной, развратной, безнравственной корове. Мысль эта была для неё невыносима, она не могла позволить себе проиграть. Её дурная слава, наша с сестрой трудная судьба, тяжесть её каждодневной жизни – всё давило маме на плечи, как горы. У неё не осталось никакого выбора, никакого пространства для манёвра. Она цеплялась за отчима как за последнюю соломинку, как за последнюю возможность вернуть себе самоуважение, своё женское достоинство.
Она молила его со слезами на глазах и тем покупала на несколько дней его расположение.
Мамина безраздельная забота ненадолго трогала отчимово сердце.
Но все его родные жили в той же деревне. Они не хотели, чтобы мама или мы перетягивали отчима на свою сторону. Они вечно наушничали у нас за спиной и убеждали отчима сбросить с себя такую обузу. И так волочишь на себе бутылёк с маслом, да на спину вдобавок жёрнов наваливаешь, удивительно, как ещё не распластался в лепёшку! Особенно старалась отчимова двоюродная сестра. Она всякий раз по собственному почину бросалась ухаживать за его сыном как за своим собственным. Вмешивалась во все их дела. Мама чувствовала себя от этого очень неуютно. Несмотря на это, ей приходилось лавировать, чтобы сохранить видимость благополучия. Ох, зачем она столько раз разводилась?
Чтобы не разойтись ещё раз, мама даже хотела накормить отчима приворотным зельем!
В наших местах его называли няня яо. Такое снадобье использовали, чтобы добиться любви или спасти брак. Когда кто-то влюблялся до умопомрачения, а предмет его страсти проявлял полнейшее равнодушие, безумец часто пускался во все тяжкие, чтобы спасти положение. Средство это было не опасное, его изготавливали по местному рецепту из трав или насекомых.
Мама варила своё зелье из жуков.
Когда я вернулся в тот день домой из школы, то с удивлением увидел, как мама ловит перед домом какую-то козявку. Я спросил её:
– Ты чего творишь?
Мама мгновенно спрятала руку за спину. Видно было, что она смешалась. Увидев, что это всего лишь я, она успокоилась.
– Ничего, – сказала мама. И попросила меня никому не говорить.
Услышав это, я насторожился. Мама наверняка занималась каким-то непотребством, иначе бы она не напряглась так, не стала бы запрещать мне болтать об этом. Я спросил:
– Ты чего собралась делать?
Мама не ответила.
Когда она промолчала, я ещё больше уверился в том, что мама занимается чем-то неприличным. Ну куда это годилось? Учителя твердили нам, что нужно бороться с нездоровыми поветриями и вредными происками. Разумеется, мне следовало выступить. Я сказал со всей серьёзностью:
– Если не скажешь, что ты делаешь, я всем расскажу.
Тогда мама притянула меня к себе и прошептала:
– Твой новый тятя не хочет нас больше, хочет разойтись. Если так, то мы останемся никому не нужны. Некуда нам будет приткнуться. Если скормить ему этого жука, он одумается, перестанет так себя вести.
Когда я услышал, что отчим собирается разводиться, я страшно обрадовался и закричал:
– Вот здорово! Наконец-то свалим из этого чёртова места, от этих чёртовых родственников!
Мама ответила:
– Много ты понимаешь. Тогда нам вообще некуда будет податься. По миру пойдём. Пока мы здесь сидим, твой новый тятя, какой бы он ни был, всё равно при нас. Всё есть куда притулиться.
Я не упорствовал, а начал помогать маме поймать жука.
Жук был серый. Назывался он муравьиный лев. У него не было жёсткого панциря и не было крыльев. Он был весь пухленький, похожий на гладкую куколку, размером с зёрнышко кукурузы. Обычно он прятался где-нибудь в земле, у стены дома, особенно ему нравилось сидеть у цоколя опорного столба. За годы там накопился толстенный слой песка и пыли. Там в пыли жук сидел и дремал. Когда он залезал в своё укромное местечко, то крутился, как маленький волчок, а мягкая пыль ложилась аккуратной воронкой. В этих маленьких воронках можно было откопать немало жуков. Забавно было, что жуки понимали человеческую речь. Когда человек приближался к кучке песка и начинал тихонько звать муравьиного льва – шу-шу-шу, – чтобы тот выходил наружу, пыль воронки приходила в движение, и жук действительно показывался на поверхности.
Мама высушила на огне с десяток таких жуков и смолола их в порошок. Когда рис почти сварился, она открыла крышку кастрюли, всыпала по краешку порошок, а потом хорошо размешала.
За ужином весь посыпанный жуками рис достался отчиму.
Когда отчим принялся за еду, моё сердце замерло от напряжения. Острее, чем у мамы. Я боялся, что отчим всё поймёт и не станет есть, все мамины усилия пойдут тогда прахом, а ей достанется вместо ужина порка. Ещё я боялся, что он съест и отравится насмерть и выйдет страшное дело: отчим превратится в духа-мстителя, а мама пойдёт под суд. Хотя мама уверяла меня, что это совершенно безопасно, я еле сдерживался, чтоб не крикнуть: не ешь! Если бы он начал ворошить рис, что-нибудь там выглядывать, моё сердце точно выпрыгнуло бы ему в миску.
Слава богу, небрежно относившийся ко всему отчим ничего не заметил.
И, слава богу, не отравился.
Мамино приворотное зелье на много лет заставило его сменить гнев на милость.
Спустя годы я всё задавался вопросом: почему эти жуки делают такие воронки? Наверняка потому, что у них, засыпанных песком, идёт кругом голова, вот они и наверчивают круг за кругом. Или потому, что они всё крутятся и крутятся – до головокружения. Ещё я думал: почему мама решила делать из них приворотное зелье? Наверняка потому, что отчим тоже стал бы ходить по кругу, как эти жучки, и в конце концов упал бы ей в объятья.
Быть может, во всём в мире есть свой тайный смысл, своё предначертание.
Быть может, в этих колдовских заговорах, приворотных снадобьях есть своя наука. Как бы то ни было, любовь без чувства и семья, где царит одна нищета, рано или поздно должны затрещать по швам и рассыпаться. Каждый устремится в свою сторону. Самое лихое снадобье не сумеет подлатать вялую жизнь души, едва теплящееся чувство.
Весь смысл этого приворотного зелья вовсе не в его таинственном очаровании, но в прочной привязанности человека к человеку. В упорстве. В бессилии. В бесконечной горечи.
Глава 7
В те времена получали мы все по трудодням.
Когда работали всем коллективом, то считали единицы работы. Полный трудодень равнялся десяти таким единицам. Их определяли в зависимости от возможностей работника. Когда доля в коллективном труде была определена, она оставалась неизменной всю жизнь. В народных коммунах все крестьяне назывались пайщиками. У каждого была своя книжица для записи единиц работы. Туда вписывали всё, что человек успевал наработать за день. Когда в конце года распределяли довольствие, то считали трудодни. Каждому выдавали продпаёк.
Мама тогда ещё не была слабой и болезной, наоборот, она была очень здоровой, но за каждый день получала только на шесть единиц. Эта доля в общем доходе определялась всем миром. У мамы, чужой, одинокой, разведённой, обременённой детьми, не было никакой поддержки, тем более что всё огромное семейство Цзиней сделалось её врагами. То, что за мамой было записано шесть единиц, было несказанной милостью небес.
Она склоняла голову перед чужими порядками. Чтобы получить больше единиц в свою книжечку и больше пайка, мама первая бежала выполнять самую тяжелую работу, даже пахала в поле наравне с мужчинами.
Я до сих пор помню ту грозовую ночь.
Я никогда её не забуду.
В тот год всю зиму стояла страшная засуха. Наконец деревня вспыхнула, как сноп сена. Под раскатистые удары грома дождь полил как из ведра. Все мужчины нашей деревни, как солдаты, бросающиеся в атаку, ринулись на поля с факелами в руках. Они спешили пахать, пахать, пахать, пока дождь не перестал.
Мама тоже вынырнула из сна и, взвалив на спину плуг, погнала вола на холм.
Гром ударял раскатами.
Вспышки молний озаряли небо.
Порывы чёрного ветра скатывались с гор.
Мама, увязая ногами в грязи, распахивала пядь за пядью слежавшуюся землю.
Она вспахивала сам безумный ветер.
Она сеяла проливной дождь.
Она сажала слепящие зарницы.
Она втыкала рядами раскаты грома.
Падала вновь и вновь.
Раз за разом поднималась.
Эта мамина чёрная ночь вся пропиталась дождевой водой, грязью и кровью.
Когда рассвело, поле было распахано. У мамы в глазах потемнело, и она как подкошенная повалилась на землю.
Слава богу, Шан Ханьин, жена младшего Куна, увидела это и спасла маму. Во всей деревне она одна была ей опорой и прибежищем.
Хотя в деревне у неё не было родственников, никто не осмеливался обижать Шан Ханьин. Всё потому, что она была секретарём партячейки в большой производственной бригаде, а её муж Кун Цинлян был милицейским комиссаром народной коммуны. К тому же она была человек сердечный, прямодушный, справедливый. Её поддерживала вся бригада.
Шан была удивительно доброй. Она помогала всем, у кого случалась беда. Всем, кому было горько, она находила способ добавить немного сладости. Даже несчастную Хуан, из бывших, она мучила чисто символически. Начальство держало её, как секретаря, в ежовых рукавицах, а потому она никак не могла не приложить к этому руку. После публичной порки она относила старой Хуан в помощь риса и прочей еды. Нашей семье повезло стать предметом её всеохватной заботы. Всякий раз, когда маму в деревне обижали, она шла жаловаться тётушке Шан, и та утешала её, а потом проходилась по отчиму и всем маминым обидчикам. И они утихомиривались – на какое-то время. Когда муж Шан Ханьин отлучался, она оставалась в доме за старшего. На ней были все их шестеро детей и старенький дед. Её дочка вышла замуж за Тяня из той же деревни. Средняя дочка и старший сын были со мной примерно одного возраста, а младшая дочь и младший сын – как моя сестрёнка. Самая младшая девочка была совсем малышка. Мы с сестрой часто ходили в дом к Кунам играть и, заигравшись до ночи, там и оставались «отдыхать». В Хунани так говорили, имея в виду «остаться на ночь». Казалось, что так звучит совсем по-родственному, по-свойски.
На самом деле не было никакой нужды оставаться на ночь в чужом доме. Деревня была маленькая, и даже ночью можно было на ощупь за пару минут добраться при свете луны до своего двора. Но иногда, когда дети заигрывались и не хотели расходиться, они оставались отдыхать друг у друга.
Детская и юношеская дружба подобна едва пробившемуся ручейку, светлая и чистая, бескорыстная, непорочная, сердечная – о такой вспоминаешь всю жизнь. Лучше бы люди вообще не вырастали. Когда они вырастают, амбиции и жажда выгоды растут с ними, становятся фрагментами их тел и потихоньку перерождаются.
Когда мама развелась с отчимом, она не съехала в тот же день. Мы продолжили жить с отчимом под одной крышей, даже в одной комнате. Когда отчим со старшим братом делили хозяйство, отчиму достался всего один дом, но зато высокий и просторный. Такой просторный, что его можно было разделить надвое, такой высокий, что можно было сделать два этажа. Тогда в горах повсюду росли старые деревья. Народ обходился местным лесом. Строили ввысь и вширь. Мы разделили дом на две половины и продолжали жить как ни в чём ни бывало. Отчим был очень недоволен решением суда, но ничего не мог с этим поделать.
Мы развели свой очаг и настелили свои полати бок о бок с отчимовыми. У нас было всего по два, но под одной крышей. Казалось, мы жили, не особо мешая друг другу, как колодезная вода с речной водою, но на деле никак не могли отвязаться друг от друга. Каждый разводил свой огонь и варил себе свой рис. Когда ранним утром или на закате над крышей взвивались две струйки дыма от очага, выглядело это престранно. Но ещё страннее было то, что наша жизнь оставалась неразрывно связанной с жизнью другой половины. Когда в одной части дома готовили что-нибудь вкусненькое, оно всегда оказывалось и на другой стороне. Когда кончалось что-то из необходимого, вторая сторона спешила скорей дать его с возвратом – или вовсе за просто так. Когда кого-то из взрослых подолгу не было дома, второй по собственному почину брал на себя заботу обо всех младших. Отчим перестал собачиться и драться с мамой, а, наоборот, стал тише воды ниже травы. Отчимов сын тоже не вредничал и не срывал на мне злобу. Мы частенько вместе играли. После еды мы садились вместе поболтать на завалинке. Говорили о мелких заботах нашего домашнего устройства, обсуждали все местные сплетни, травили анекдоты. Мама с отчимом по очереди рассказывали нам разные байки. Отрезанный ломоть обратно не приставишь – но мы вопреки всем ожиданиям зажили после развода в небывалом мире и согласии. Это было чудно и невероятно.
Было ли тому виной возникшее между нами расстояние или сама жизнь, с её необъяснимой тайной? Возможно, и то и другое. А быть может, и нет. Жизнь порой похожа на бездонную стремнину. Мы только можем поплескаться у берега, но нам не под силу вести по ней свою лодку или плыть на глубине. Того, кто осмелится пуститься в её воды, затащит на дно омута. Он непременно утонет. Наши семьи, жившие сперва как кошка с собакой, быть может, шлёпая ногами по грязи, слишком глубоко зашли в её мутные волны – и оказались в водяной яме.
От этого вдруг возникшего чувства радостного единения и душевного спокойствия отчим захотел вступить с мамой в повторное супружество. Шан Ханьин тоже стала убеждать маму выйти снова за него замуж. Но мама словно видела всё насквозь. Она не захотела разбивать наше спокойствие новым замужеством и уж тем более разрушать нашу с сестрой счастливую жизнь. За все свои многочисленные семейные союзы мама поняла, что мужчина для женщины вовсе не единственный царь и бог, а брак – не единственная её опора. Ни один мужчина и ни один брак не сможет дать ей убежище и защиту на всю жизнь. И раз так, то надеяться она может только на себя. Только покинув мужнины объятья, освободившись от прекрасных иллюзий и несамостоятельности, она может стать твёрдой, непреклонной, поднять голову и воспрянуть духом. Мама, которая в жизни не училась ни дня, на собственном опыте поняла, о чём толковали классики: брак – это могила. Ради детей она выбрала пуританскую жизнь, свободную от оков чувственности и сладострастия.
Глава 8
Для отчима развод стал настоящим облегчением. Но для мамы он обернулся ещё большим унижением, ещё большим страданием. Когда отчим брал её из равнинной Чэтуку в эти высоченные горы, он думал, что судьба её будет стоять на недостижимой вершине и глядеть сверху на холмы, а до рая будет рукой подать. Никто не мог знать заранее, что он скрутит ей «козлом» руки и толкнёт её с самой высокой горы прямиком в самое тёмное ущелье. В глубине этой пучины были ядовитые плевки и колкие взгляды, бесконечные издевательства и нескончаемые оскорбления.
Весна на западе Хунани – и в городе, и в деревне – всегда была омыта водой. Всё было новым, светлым и ярким, отмытым от всякой скверны. Такими были горы, такими были реки, такими были деревья, земля и солнечный свет. Солнце легонько касалось губами глазури нежных, молодых побегов, и влажные просверки ложились на зелень, как дрожащие пятна. Они выплёскивались на неё изумрудными тенями и колючими шипами. Околдованные весной кукушки рассыпались на залитых весенним светом ветвях и самозабвенно куковали. Они возглашали весну, они подзывали людей, они подманивали первые весенние чувства.
К тем, кто трудится, и весна приходит раньше. А ранней весной работы никогда не бывает мало. Едва очнувшись на рассвете, взрослые обитатели Шанбучи будили всю деревню своей деловитой суетой. По дворам разносились звуки хлопающих дверей. Понукали скот. Призывные крики бригадира, разносившиеся с вышины, лишали деревню последних остатков покоя.
Бригадир всегда забирался на высокий склон и, приставив руки ко рту на манер рупора, орал: «НА – РА – БОТУ! НА – РА – БОТУ! НА – РА – БОТУ!»
На его шее вздувались, как толстые корни, синие жилы.
Мама всегда тихонько посмеивалась: «Гляди как надрывается, сейчас обосрётся с натуги».
Когда крики бригадира смолкали, из тумана выныривал сонный мужской или женский голос: «Что сегодня по плану?»
Бригадир отвечал: сажать рассаду, или там полоть сорняки, или молотить рис, или собирать тунговое масло.
Эти грубые звуки, сделав несколько кругов на деревней, опускались на землю, как благовестие Будды.
Я до сих пор до умопомрачения люблю эти звуки деревенского утра, что разрывают его тонкую дымку, пропитанную утренними росами.
Мама всегда была одной из самых первых. Но в тот день, когда сажали рассаду, она припозднилась. Сестрёнка болела, и мама сперва должна была сварить ей лекарство и приготовить кашу на завтрак. Когда мама быстрым шагом подошла к бригадному полю, начальник как раз раздавал наряды. Когда он выкрикивал чьё-нибудь имя, этот человек подходил к нему и брал у него наряд. Все, кто получил своё, могли отправляться на поле. Он выкрикивал всех по очереди и довольно скоро дошёл до конца, но мамино имя так и не прозвучало.
Мама спросила:
– А я?
Бригадир ответил:
– А ты нет.
– Это ещё почему?
– Опоздала.
– У меня дочка болеет. Всего-то капельку опоздала, только начали.
– А не хрен опаздывать.
– Впредь уж не опоздаю.
– Да что толку-то? Что мне твоё впредь.
– И что же мне делать?
– А что хочешь, то и делай. Мне-то что.
– Запрещаешь мне работать, а как мне жить, как мне есть-то?
– Как хочешь, так и ешь. Я тебе есть не запрещаю.
– Раз запрещаешь работать, считай, без куска меня оставляешь.
Тут хмуривший брови бригадир вдруг загудел низким басом:
– Сестрица! Стыд-то поимей! Говорю тебе по-нормальному, что бузишь без повода! Где я тебе что запрещаю? Что мне за дело до твоих аппетитов? Что ты на меня всех собак навешиваешь, а?
Мама отвечала:
– Я на тебя вину не валю. Я тебя просто прошу дать мне наряд. Если околею, то и бог с ним. А вот детей жалко.
Бригадир заорал:
– Что мне за чёртово дело до твоих детей! Ты погляди, уже все места на поле разобраны. А тебе места нет!
Мама ткнула пальцем в один уголок:
– Вон смотри, там ещё есть свободное место!
– Там не сажаем.
– Пусто-пустёхонько, чего не сажаем-то?
– Я сказал не сажаем, значит, не сажаем! Кто здесь бригадир: ты или я? А то ступай, сама паши, сама сажай!
Мама знала, что бригадир просто хочет над ней поиздеваться, посмеяться над её горем. Сдерживая гнев и слёзы, она сказала:
– И буду.
Бригадир увидел, что ему не одолеть мамы, и, холодно усмехнувшись, ответил:
– Да ради бога, только скотину нашу не трогай!
Мама сказала:
– Как я одна пахать без скотины буду?
– Как хочешь. Тебе-то что, ты у нас вон какая, – сказал бригадир.
Мама аж затряслась от гнева. Вцепившись ногтями в бока, она заорала:
– Тянь Фанкуай! Какая я «такая»? Сам ты «такой», скотина! Хочешь меня с детьми уморить, да? Хочешь – давай, помру, чтоб тебе неповадно было!
Потом она набросилась на Тяня, пытаясь разодрать ему лицо.
Тянь ловко уклонился, а мама отлетела назад и упала на землю. Во все стороны брызнул издевательский хохот.
Мама поднялась с земли, вся пропитанная грязью. Когда она попыталась снова накинуться на Тянь Фанкуая, её удержала старая Хуан, из бывших. Она зашептала:
– Бедная ты девочка, смирись уже. Ступай домой, отдохни денёк, всё равно дочка болеет. Ступай полечи её как следует.
Мама сплюнула грязью и заскрежетала зубами:
– Хочет, чтоб я подохла, да хрен! Не даёт мне сажать, а я буду! Старуха Хуан спросила:
– Как?
Мама ответила:
– Пусть поглядит, полюбуется. Как он сказал, так и сделаю – сама распашу, сама и посажу!
Тянь Фанкуай холодно усмехнулся:
– Так иди! Чего сюда припёрлась?
Мама пошла прочь, выкрикивая оскорбления:
– Ты, Тянь, тот ещё хрен с горы! Но на небе всё видят, отольются тебе мои слёзки! Добром не кончишь! Помрёшь так, что никто про тебя слова доброго не скажет!
Тянь орал в ответ:
– Боюсь, кто вперёд меня помрёт!
– Будь покоен, бог своих не забидит. Всем воздаст по заслугам, всех бесстыжих поразит, – сказала она на прощание.
Когда мама ушла, бригадир, задыхаясь от злости, принялся за рассаду.
На западе Хунани был такой обычай.
Каждый год в первый день, когда начинали сажать рассаду, «открывали ворота». Бригадир выводил за собой в поля всю деревню, народ бил в гонги и барабаны и длинной цепочкой тянулся на поле, чтобы провести там церемонию. Шли на самый большой кусок ровной земли. Мама разругалась с бригадиром как раз возле того места. В Шанбучи, растянутой по горам, трудно было найти другое такое большое и ровное поле. Оно было почти совсем квадратным, залитым мелкой прозрачной водой, и выглядело как зеркало. Как кусок шёлка, расстеленный на земле. На поле спереди было воткнуто алое знамя. У края поля стоял глиняный кувшин, полный рисовой водки. На меже высились вязанки рассады.
Бригадир подошёл к рассаде, взял одну туго стянутую вязанку и нараспев стал читать слова моления об обильном урожае.
Его губы, которыми он только что поносил маму, призывно двигались вверх и вниз, уверенно произнося заветные слова: раскройтесь, ворота! раскройтесь, ворота! большие и малые – на большой прибыток да на малый прибыток, слева прибыток и справа прибыток, сверху прибыток и снизу прибыток, в каждой щёлке, в каждой лазейке.
Сказав это, он бросил вязанку на середину поля. Это называлось «прищипкой». «Щипали», чтоб отметить границы поля. Двое «тянувших канат» становились по обе его стороны и отмечали собой нужное расстояние. Всё поле делили на много аккуратных клеток, и народ рассыпался по полю, ожидая, когда начнут раздавать рассаду. Пока «тянувшие канат» размечали клетки, бригадир кидал по вязанке на каждый угол поля. Это называлось «раскрывать фланги». Так раскрывали ворота урожаю и прочим успехам, которые должны были хлынуть со всех сторон сплошным протоком.
В то время часто устраивали соцсоревнование – бригадир давал команду, и все бросались втыкать саженцы, стремясь вырваться вперёд, посадить быстрее и аккуратнее прочих. Перед каждым стояла деревянная или керамическая плошка, полная смеси золы и химических удобрений. Перед тем как воткнуть саженец в землю, нужно было успеть обмакнуть его в удобрения. Все работали как автоматы, с сумасшедшей скоростью нагибаясь и выпрямляясь в своём летящем ритме. Пальцы бешено хватали и втыкали рассаду. Большой и указательный работали слаженно, как клювик курицы, склёвывавшей с земли рисовые зёрна.
Вся сельская работа делалась лицом вперёд, и только при посадке рассады двигались наоборот – шаг за шагом отступая назад. Деревенские пели:
- Пара свой день начинает с работ:
- Тени ложатся по зеркальцу вод,
- Ряд за рядком отступая назад,
- Кажется вспять – а на деле вперёд.
Когда рассада была высажена, какая-нибудь из женщин вдруг хватала пригоршню жидкой грязи и припечатывала её в лицо какому-нибудь симпатичному парню. Парень, ничуть не тушуясь, тоже хватал пригоршню грязи и отправлял её в лицо обидчице. Один мазал другого, а третий, глядя на них, тоже пускался в разные проказы. Все – мужчины и женщины, молодые и старые – разукрашивались, как актёры или глиняные статуэтки. Все носились друг за другом по полю в волнах поднимавшегося и смолкавшего смеха, и от этого тяжкий труд становился весёлым и радостным. Это называлось «мазать амбарные ворота». Поле тогда было вовсе не поле, а житница, грязь – не грязь, а зерно. К концу весны ветер непременно должен был сделаться мягок и дожди обильны, а зерно – потечь, наполняя все закрома и амбары.
Пока деревенские были захвачены радостью труда, мама мучилась своей тягостной выключенностью из общего счастья.
Когда бригадир отобрал у неё право на труд, он тем самым лишил её отметки о трудоднях. А значит – лишил дневного пайка. Ради детей и ради самоуважения мама не собиралась мириться со своей участью. Она намеревалась сама взяться за пахоту.
Но бригадир не велел ей брать общих бригадных волов. Маме оставалось только одолжить скотину в Сябучи. Хотя Шанбучи и Сябучи входили в одну большую производственную бригаду, относились к маме в двух деревнях совершенно по-разному. В Шанбучи её ненавидели родовой, неизбывной ненавистью, а в Сябучи встречали глубочайшим сочувствием. Этих волов из Сябучи мама поминала всю жизнь. Она говорила, что и в будущем перерождении, даже уродившись скотиной, ей не расплатиться с Сябучи.
Долина у подножия гор была очень длинной, она вилась почти несколько десятков километров, пока не приводила наконец к зданию волостного правительства. За подгорьем тянулись, поднимаясь и опускаясь, высокие горы, собранные в складки маленькой ладошкой времени. Ущелье перетекало в ущелье, а горы ползли, все увитые пышными бамбуковыми зарослями и деревьями. Они были похожи на ожившую картину. С другой стороны горы обрывались неколебимыми уступами, вытесанными гигантским топором времени. Они были похожи на ровные каменные стены. Следы топора густо усеивали всю их поверхность. В глубоком ущелье таились террасы полей.
Мама пахала в этом ущелье, под сенью гор, устремлённых в облака. Она была похожа на муравьишку, который решил свить себе одинокое гнёздышко, лишённый всякой поддержки. Солнце уже во всём блеске билось об отвесные утёсы, но его свет падал только до середины склона. Вся нижняя половина гор покоилась в тени. Горы словно нацепили ярко-жёлтую майку, из-под которой торчали наружу линялые до серого цвета старые трусы. На колоссальных каменных уступах виднелись шрамы, оставленные за миллиарды лет дождём и ветром, как дорожки слёз, молчаливо, с сочувствием наблюдавшие за маминой работой. Над её головой неотвязно кружился ястреб. Он делал круг за кругом и возвращался снова, не зная усталости. Птица будто хотела разделить с мамой всю её тоску и тяжкий труд, будто боялась, что она может упасть под лемех от усталости.
Мама пахала, увязая ногами в грязи. Вол тащился спереди, мама волоклась сзади, неповоротливый лемех и отвал были послушны её рукам. Они ворочали пласты жирной земли, и от их движения во все стороны разбегались волны и разлетались, как искры, капли грязной воды. Вол глубоко закусывал удила, плуг глубоко уходил под воду, мама глубоко проталкивала в глотку слёзы. Закончив пахать, она начала боронить, потом сажать. К тому моменту, как мама высадила рассаду, на небе уже показалась луна и первые звёзды.
Тут она вспомнила, что у больной дочки не было во рту ни маковой росинки. Мама быстро вымыла руки, выбралась на сухое место и погнала скотину домой, волоча за собой плуг. Не успела она сделать и нескольких шагов, как ноги у неё подкосились. Мама упала на острый лемех, который бесшумно и глубоко прорезал ей икру. Кровь зазмеилась из-под штанины, как дождевой червяк.
Мама бессильно ухнула вниз, от боли она долго не могла перевести дыхание. Поднялась и снова упала. Опять поднялась и опять упала. Измотанная до предела, с разодранной икрой, она никак не могла уверенно встать на ноги и отправиться быстрым шагом обратно. Мама сорвала немного полевой травы, размяла её руками и наложила на рану, чтобы унять кровь.
Она боялась, что вол убежит, и привязала его к дереву, а сама упала тут же, под деревом, тяжело дыша.
Глядя на мирно пасущуюся скотину, на угольно-чёрное небо, она думала о дочери. Печаль нахлынула внезапно и горьким криком вырвалась наружу.
Небо было чёрным, но в этот миг словно стало ещё чернее.
Звёзды от нахлынувших слёз превратились в метеоры и покатились с неба сверкающими горестными точками.
А дома сестрёнка, не дождавшись маму, обливаясь слезами, отправилась к тётушке Шан Ханьин. Шан велела домашним накормить её, а сама, сгорая от тревоги, побежала в долину.
Когда Шан вернулась домой с собрания в коммуне, она уже знала, что произошло на поле днём. Она страшно испугалась, что мама решила свести счёты с жизнью, и, прихватив фонарь, побежала как бешеная.
Когда тётушка Шан появилась на горизонте, мама почувствовала себя ещё более сиротливой и неловкой. Она ревела:
– Шааан, то там кто помрёт, то здесь кто помрёт, что же этот козёл, за которого я вышла замуж, так и не помер?
Тётушка Шан убеждала её:
– Не помер и не надо ему помирать, ты и так живёшь себе одна распрекрасно.
Мама ревела ещё сильнее:
– Ох, Шааан, Шааан, отчего люди на горы обопрутся – и горы у них не падают, на реки понадеются – и реки у них текут, на мужчину положиться могут, а у меня всё наоборот – и мужчина- то оказался дрянь дрянью?!
Шан отвечала:
– Да и бог с ним, на себя одну надейся – тебе же лучше будет.
– Ну Шааан, все говорят: у всякого греха есть греховодник, у всякого долга есть свой должник. Почему у меня не так, а? Все нами помыкают, как хотят. Гадят нам на голову, а?
– Да кто б посмел тебя обойти! Мы за тебя все горой – и того довольно.
– Когда ж эта жизнь говянная закончится? Когда же наконец я своих в люди-то вытащу?
– Года два ещё потерпи. Ты на детей погляди – всё у них лучше прочих! И сами молодцы, и в учёбе первые, никого в деревне лучше них нет! Закуси губу, стисни зубы, помаленьку и вытянешь. А если одна не справишься, так я тебе подсоблю.
– Ох, Шан, я-то знаю, что ждут они забавы, ждут не дождутся, когда я помру. А я им не дам повеселиться, назло им помирать не стану.
– Нельзя тебе помирать. Если помрёшь, они только обрадуются, а у детей твоих никого не останется. Живи себе. Ещё поглядим, кто раньше помрёт.
Мама и тётушка Шан перекликались в ночной тишине, как плачущие соловьи. Каждый всхлип был горестнее другого. Звёзды скатывались на землю от их плача, как капли росы, а роса распускалась сияющими звёздами.
Когда тётушка притащила маму домой, ночь уже сменилась рассветом.
Глава 9
У каждого, кто вырос в западной Хунани, глубоко в сердце запрятана чарующая картина.
На этой картине румяный рассвет разливается по огромному небосводу. Заря встаёт между клубящихся облаков. Небо, как умытое поутру лицо, касается влажного полотенца прозрачной дымки и несмотря на зной выходит из него свежим и обворожительно прекрасным. Облака и заря сплетаются вместе и завязываются скользящими узлами, полные скрытой печали. Когда небо наконец открывается полностью, становятся видны касающиеся его горы, свисающие будто с небес горные тропы и люди в обмотках с карабинами, идущие по самой его кромке. Они идут, гордо вскинув голову. Они исполнены величия. Они похожи на героев. Я не раз представлял в своих мечтах, что кто-нибудь из этих мужчин – мой отец. Эти силуэты, проступающие на фоне неба, до сих пор – самые незабываемые воспоминания моего детства. Там мужчину всегда сопровождает ружьё. Там зажигаются яркие отблески моей юности, когда я вот-вот должен был превратиться в мужчину.
Эта была картина хунаньской охоты, или «гона».
Каждый год время большой охоты становилось весёлым гуляньем и великим пиром для всей деревни. Для мужчин это было время геройской игры. В наших уединённых, унылых местах ничто не могло сравниться с охотой, ничто так не завораживало нас, сорванцов и озорников. Едва заслышав про предстоящий «гон», мы теряли остатки воли, всё наше внимание замирало на концах охотничьих карабинов. Наши сердца воспаряли вверх и летели в дальние горы, вдогонку за дичью.
Охота не зря называлась «гоном». Охотники гнали дичь по горам, как ратоборцы, настигая бегущее мясо. Туцзя устраивали «гон» не ради еды, а чтобы отогнать зверей и защитить посевы. Но в шестидесятые и семидесятые годы, самое трудное время, «гон» был нужен деревне для выживания. Вечером предыдущего дня все возносили моление Владыке охоты и духу гона. В западной Хунани духа гона называли духом гор Мэйшань. Давали залп из ружей и кричали богатырским криком. Один заводил: «А – и – эй – иии», а другие отвечали хором: «А – эй…». Считалось, что так дух гона возвращается в деревню и с охоты никто не вернётся с пустыми руками. Вокруг околицы втыкали факелы – несколько сотен, чтобы осветить дорогу Владыке охоты. Это было куда мощнее нынешних фейерверков.
На следующий день рано утром почтенный, всеми уважаемый старик выводил грандиозную процессию мужчин, выступавших в дальние горы. Их было верных несколько десятков, почти сотня. Они ступали по горам, как отряд, командированный на фронт. Бравые. Доблестные. Величественные. Отличие было в том, что следом за этой внушительной процессией бежало несколько десятков резвящихся собак. В этой героической пьесе люди играли первую скрипку, а собаки – вторую.
На месте важный старик пересчитывал всех охотников. Потом он распределял их по горам в зависимости от размера и количества «застав». Самые опытные выходили в разведку, они высматривали на земле следы кабанов. Самые сильные садились с сетью в засаде. Самые меткие, искусно владевшие ножом становились в караул на «заставе». Самых зорких, громких и быстрых брали в загонщики. Выйдя на кабанов, они начинали громко кричать, чтобы звери шарахнулись и побежали. Все остальные отвечали за облаву – они окружали зверей и вели их на вырытый заранее ров. Когда хитрые и опытные разведчики обнаруживали стадо, все вставали по местам. Загонщики с собаками начинали шуметь и гнать диких свиней на «заставу». Как только те оказывались в сетях или во рву, они становились лёгкой добычей.
Когда по горам пролетал первый крик: «Ухухух!..», ему эхом откликались все утёсы. Когда новый «ухухух!» разлетался над ущельями, по горам волнами прокатывалось несмолкающее уханье. Наконец, когда уханье, поднимавшееся со всех сторон, сливалось в громовые раскаты, потрясавшие землю, – в настоящую музыку гор, кабаны не выдерживали – они бросались врассыпную всем своим кабаньим стадом. Едва показавшись в прицелах ружей, они доблестно падали навзничь, сражённые безжалостным клацаньем затворов.
Толстенного кабана под возгласы ликования вносили в деревню.
Вся деревня была сама не своя от счастья.
Это был самый большой праздник для деревенских. Дети кричали и прыгали от возбуждения. Они пели и плясали.
Среди хунаньских туцзя был один древний обычай, связанный с ежегодным «гоном», – каждому, кто становился свидетелем охоты, полагалась от неё доля. Когда делили мясо, всякий, кто присутствовал при этом, получал свой кусок дичи. В этом проявлялись и всеохватная страсть, и героическое дерзание охоты. Внутренности: печень, желудок, лёгкие – ели всем миром, голова доставалась охотнику, поразившему зверя, а копыта и рульки – тем людям, что вывели на его след. Всё оставшееся делили поровну, никому не разрешали выбирать себе лучшие куски. Каждый кус мяса оборачивали в пальмовые листья, потом их раскладывали на плетёном решете, так что наружу торчали одни верёвки, которыми они были обмотаны, и накрывали сверху вторым решетом. Самого мяса было не видно. Решето встряхивали несколько раз, и каждый вытягивал себе за верёвку кусок – какой попадётся. Никто был не в обиде.
Но моя семья и семья старухи Хуан никогда не получали ничего. В Шанбучи нас никогда не считали за равных. Хотя я, как все, наблюдал величественную сцену охоты и радостную сцену дележа, здесь старый обычай неизменно нарушался – из-за того презрения, которое испытывала к нам вся деревня. Вся добродетель тысячелетий рассеивалась по ветру.
Охота соблазняла моё детское сердце. Её тайна, её грандиозный размах будили во мне геройство и отвагу. Я грезил о том, чтобы у меня тоже было ружьё, чтобы я тоже, вскинув его на плечо, как герой поднимался под благоговейными взглядами навстречу солнцу. Я несметное число раз представлял себе, что я тот самый охотник, чья пуля оказалась роковой. Тогда мне бы не только досталась кабанья голова для сестры и мамы – я стал бы для людей самым настоящим героем.
Но мне так и не удалось взять в руки ружья. Хунаньский «гон» остался в моих воспоминаниях. Я помнил его как воплощение народных традиций. Ещё больше я помнил его как страшный позор и унижение. Я чувствовал себя хуже убитого кабана.
Когда мама впервые увидела, как делят мясо на деревенской спортплощадке, она подумала, что ей тоже достанется законная доля. Она тоже, как все, трижды обошла решето с мясом. Когда мама наклонилась и собиралась уже потянуть за верёвку, раздался окрик бригадира. Кусок мяса упал на землю.
– Сестра! Тебе не полагается!
Мама боязливо спросила:
– Это ещё почему? Разве не всем полагается?
– Ты не охотилась, тебе не положено, – ответил бригадир.
– Ну так они тоже не охотились, – сказала мама, ткнув пальцем в стоявших рядышком женщин.
– Их мужчины охотились. Ты бы своего тоже отправила б на охоту! А если нет мужика, так найди полюбовника!
Народ злобно засмеялся.
Все знали, что при дележе мяса каждый, кто попадался на пути, будь он хоть прохожий из другой деревни, получал свой законный кусок. Но никто не вступился за нас с мамой. Все только стояли и злорадно смотрели.
Мама уже собиралась уйти, но увидев меня и сестрёнку, стоявших поодаль, подняла свой ладный кусок филея, упавший на землю.
Бригадир рванулся вперёд, как подрезанный. Он вырос столбом перед мамой и заревел:
– Сказано тебе не брать, а ты тащишь, бесстыжая?
Мама ответила:
– Нынче непременно возьму – какого чёрта ты меня с детьми так унижаешь, на что это похоже?
Бригадир, не говоря ни слова, протянул руку и попытался вырвать у неё мясо.
Мама вцепилась намертво. Когда она поняла, что ей не удержать добычу, мама запихала её за пазуху, чтобы бригадир никак не сумел вырвать её из рук.
Мама вся была залита свиной кровью и жиром.
Бригадир, который никак не мог отодрать её рук от мяса, прикрывал своё смущение гневом. Он злобно пнул маму ногой, и она упала на землю. Мясо шлёпнулось в пыль, как кусок кирпича.
Все снова насмешливо заржали.
Сестрёнка плача и крича выбежала из толпы и помогла маме встать. Она вопила:
– Мам, да нам не надо, нам с братом ничего чужого не нужно, а мясо мы вообще не едим.
Мама обняла её и разрыдалась.
Она выла, что она ни на что не годная, плохая мать, которая даже не может получить своего куска мяса, что детей её обижают почём зря и что бригадир, гадина, добром не кончит.
Мне тогда уже было одиннадцать лет. Почти что маленький мужчина. Когда я увидел, как маму с сестрой обижают, я просто рассвирепел. Поднял с земли камень и запустил прямо в бригадира. Камень метко ударил его в поясницу. От внезапной молнии не успеешь закрыть уши. Бригадир охнул и присел на карачки. Я помню, что это был первый раз, когда я смело выступил вперёд, чтоб защитить маму и сестрёнку.
Но вышло только хуже. Родственники бригадира накинулись на меня все сразу: они били и пинали безо всякой жалости. Вдруг бойко охаживавшие меня услышали пронзительный вопль:
– Кто ещё хоть раз ударит, тот поглядит, как я прирежу бригадира!
Я обернулся и увидел, что мама приставила нож к горлу бригадира. Тот самый, каким только что разделывали кабанью тушу. Ослепительно блестящий, невероятно острый!
Мама орала как сумасшедшая:
– Кто тут такой смелый, об ребёнка кулаки чешет, давайте, изрубите меня в куски, всем мяса хватит. А если кишка тонка, так я прирежу к чертям вашего бригадира! Выбирайте!
Все смотрели друг на друга.
Бригадир был страшно напуган и молил о пощаде. Он кричал:
– Сестра, ладно тебе, не принимай всерьёз, поделимся с тобой! Сколько хочешь, столько бери! И мою долю забирай!
Мама заскрежетала зубами:
– Опоздал, брат, мне уже не нужно! Теперь ты мне сам нужен! Все родные бригадира встали на колени. Сказали, что отказываются от своей доли в нашу пользу.
На шум прибежала Шан Ханьин.
Мама обрадовалась ей, как спасителю. Она отшвырнула нож и, рыдая, упала ей в объятья, умоляя, чтобы она нас защитила.
Когда тётушка Шан узнала, что произошло, она сказала бригадиру:
– Что ты за бригадир? Гнать тебя поганой метлой! Ты разве обычаев не знаешь? С какого перепугу наши древние устои вдруг надо похерить? Ты что, бог или император?
Бригадир сказал:
– Я виноват.
Шан ответила:
– Если так, подними мясо, отдай его ей!
Он быстро подобрал упавший кусок и отдал маме. Мама отёрла слёзы, взяла мясо и гневно швырнула его прямо в бригадира: «Погань!» Потом она взяла меня и сестру за руки и пошла прочь.
Мама шла гордо вскинув голову, как ни в чём не бывало, но я чувствовал себя разочарованным. Это унылое чувство было как собачка, которая отбегает назад, робко поджав хвостик.
С тех пор я больше никогда не ходил смотреть на охоту и тем более – на делёж мяса.
Охота превратилась в вечную рану на моём сердце. Она болела.
В тот день сражённым пулей пал не кабан, а моё достоинство. С ним пало на землю всё самое уродливое, что бывает в человеческой природе и делах этого мира.
Глава 10
«Голод» был другим именем шестидесятых.
Недавно созданная Китайская Народная Республика была как совершенно новый чистый лист бумаги. На нём можно было нарисовать самые свежие и прекрасные картины. Но вместе с тем она была похожа на изодранный, трещавший по швам клочок мятого картона. Всё нужно было начинать заново. Китай колыхался от штормов бесконечной войны, повсюду были болезнь и нищета. Хотя народ увяз в энтузиазме строительства нового Китая, все, казалось, двигались не в том направлении. Революционный запал устремился в какое-то неправильное место. В пылу революционных чувств весь Китай немного потерял голову. Особенно после того, как в апреле 1970 года в небо поднялся первый запущенный китайцами спутник, тогда всколыхнулась настоящая волна народной страсти. Самой сильной, самой прекрасной общей мечтой всех китайцев стало «трудиться с полной отдачей». Но в то же время всем по-прежнему приходилось затягивать потуже пояса.
В затесавшейся между гор Шанбучи было немало добрых полей. Почва была тучной и не слишком влажной, но из года в год случались засуха, неурожай, после сбора зерна на хлебозаготовки, считай, ничего не оставалось, и народ часто голодал. Весной приходил первый весенний голод. Летом – летний. Почти в каждом хозяйстве собирали дикие травы и варили вместе с гаоляном жидкую кашу. Чтобы хоть как-то справиться с недородом, бригадир отправлял мужчин в горы охотиться, а женщин – собирать гэ[8].
Листья на лозе у неё размером с ладошку, вкусные, мясистые и нежные. Они покрыты слоем мелких волосков. Свиньи их просто обожают. А в те годы они составляли почти половину нашего ежедневного рациона. Лозы гэ вырастают до трёх-пяти чжанов[9] длиной, они бывают толщиной в палец, а бывают – в целую руку. Гэ обладает удивительной живучестью, в любой суровой среде она способна расти и размножаться. Между высоких гор и мощных хребтов Шанбучи повсюду торчали заросли этих растений. Они переплетались между собой, касались листьями, и их пурпурные цветы размером с пуговицу как искорки мелькали то тут, то там в зелёных кустах.
Девочки, девушки и женщины отправлялись в горы и корчевали там эти лазающие лианы. Внизу, под каждой мягкой и тонкой плетью, таились мощные корни. Бессильные нежные побеги, едва нырнув под землю, превращались в толстые, крепкие корневища. Они насмерть бились за жизненную энергию почвы. Каждый был крупнее и сочнее другого. Мамина мотыга ударяла в землю, и вся лиана приходила в движение, шурша, как от ветра. Земля, что ложилась по обе стороны от ямки, была горячей и влажной на каждом свежем разрезе. Это была околоплодная оболочка корней, их мягкий послед. Мама осторожно касалась его и почти неощутимо переворачивала. Там, под этими слоями, в самой глубине таился плод лианы – её землистый корень. У каждого корня было от десяти до нескольких десятков «деток». Самые мелкие были толщиной с большой палец взрослого человека, а самые большие – с икру. Короткие длиною в сажень, а длинные – в три.
За день мама успевала вырыть до пятидесяти килограммов корней. Их можно было есть прямо сырыми, просто отмыв от грязи, а можно было запарить и есть горячими. Внутри у корневищ тянулись, как луб, грубые волокна. На каждом торчали белоснежные наросты, похожие на крупинки проса. Если есть корни сырыми, они были сладкими и терпкими. В готовом виде вся терпкость пропадала, гэ становилась крахмалистой и вязкой. И то, и другое было приятно. От плотных, как луб, волокон часто сводило скулы. Было ощущение, что жуёшь сахарный тростник, выжимая из него сладкий сок. Одного-двух корней хватало на всю семью. Иногда мама разминала эти корни и варила их вместе с рисом или кукурузой. Пахла такая каша божественно, но есть её было трудно – приходилось сильно жевать. Вкуснее всего было размять корни в колоде, где мяли кукурузу, сцедить весь крахмал и сладкий сок и наделать из них белоснежной лапши. Сперва её варили в большом котле, а потом жарили, пока она не пристанет к кастрюле, не станет золотисто-жёлтой. Лапшу сдабривали солью, маслом, острым перцем. Они были невероятно вкусными, эти дары гор.
Сок эти толстых корневищ, как молоко матери-земли, питал каждого обитателя нашей деревни в дни весеннего и летнего недорода. Даже за три года самого страшного голода благодаря диким ягодам, фруктам и корням мы не потеряли ни одного человека. Ни один обитатель Шанбучи не умер от голода.
Из-за голода мне довелось пережить ещё одно значительное событие. Оно было никак не связано с деревней. Или с бригадиром. Или с деревенскими. Только со мной одним.
Стояло лето. Последняя четверть в начальной школе. Всё цвело и кустилось. Злаки и овощи наперегонки шли в рост, спешили выпустить наружу цветы и дать завязаться плодам.
Рис уже наливался, шумел колосьями. Он был весь усыпан золотистыми цветами. Одни ещё трепетали лепестками, другие уже опали, и их место заняли зёрна. На нежных зачатках зёрен ещё лепились чешуйки цветов, словно не в силах их покинуть. На разделительной меже виднелись проростки бамбука, вьющиеся побеги коровьего гороха и фасоли льнули к ним, образуя плотные ширмы, разгораживавшие поля. Кукуруза уже стояла выше человеческого роста, её зелёные блестящие листья танцевали на ветру, махали струящимися рукавами. На каждом огороде всё заполняли перцы, баклажаны, люффы и – самые заметные – цветы тыквы, трубившие каждый день в свои репродукторы.
Однажды, когда мы с сестрой шли в школу, по дороге нам попался огород, где висели несколько первых крепких огурчиков. Огород был на небольшом возвышении, размером с пару лежанок. Моя душа запела. Я подумал, что наконец-то на обед будет что-то вкусненькое и не придётся снова мучиться от голода. Мама уже много дней подряд варила жидкую кукурузную кашу с толчёными корнями. Овощей не было и в помине, и я никак не мог наесться. Эти огурчики привели меня в полный восторг. На низеньких подпорках, увитых зеленью, всё было усыпано жёлтыми цветами, проглядывавшими из-под свежих листьев. Под ними прятались махонькие плоды. Они уже были толщиной с большой палец, а длиной – со средний. На плодоножке ещё висел канареечно-жёлтый цветок. Я не раздумывая запрыгнул в огород и уже было собирался сорвать их, как сестра остановила меня вопросом:
– Ты чего там рвёшь?
– Огурцы.
– Это же не наши, а чужие. Нельзя их рвать. Это всё равно что украсть.
– Есть хочу, плевать мне на всё.
Сказав это, я сорвал огурец. Его нежная кожица была вся покрыта мягкими колючками.
Сестра снова попыталась остановить меня, сказав ещё решительнее:
– Нельзя красть. Кто крадёт, тот разбойник!
– Отстань, хочу и буду! – взбесился я.
Я разом сорвал четыре штуки.
Сестра кричала:
– Это двор инвалидки, нельзя у неё красть!
Я остановился:
– Правда что ли?
– Правда! Не кради, оставь их в покое!
Когда я услышал это, мне стало стыдно, и я заорал:
– Что ты нудишь всё «не кради-не кради», задолбала уже!
Сестра ответила с нажимом:
– Потому что так и есть.
Я выпрыгнул назад из огорода и протянул ей огурцы, чтобы она спрятала их к себе в портфель.
Но сестра сказала:
– Это краденые, не буду. Клади к себе в портфель!
Я выпучился на неё и сказал, что ко мне не влезет. Потом я вскинул руку, собираясь её ударить:
– А ну клади!
Сестра испугалась и послушно вложила огурцы в портфель.
Мой портфель был набит книгами и тетрадками под завязку, там бы действительно ничего не поместилось.
– Ты украл у инвалидки. Всё расскажу про тебя. Учителю и маме, – заныла она.
Я снова вскинул руку:
– Посмеешь, я тебя прибью!
Сестра больше не осмелилась ответить.
Стоило мне войти в класс, как я почувствовал себя заключённым. Я всё время думал об этих огурцах. Они, как четыре маленьких гранаты, норовили взорваться у меня в руке. Я ужасно жалел о своей минутной слабости, о том, что украл, и особенно о том, что украл их у бедной, ни на что не способной женщины. Дом инвалидки был у самой школы, каждый день, когда мы шли на уроки или с уроков, мы видели её. Ей было лет семьдесят с лишком. В детстве она упала в печь и обожгла себе лицо – оно было всё покрыто рубцами. Ещё у неё была заячья губа. Инвалидка никогда не была замужем, и детей у неё не было. Она была ужасно жалкая и дряхлая. Несчастные огурцы дались ей с превеликим трудом, и теперь, когда я украл их, я чувствовал себя последним отребьем.
С детства мама учила меня и сестрёнку быть честными, никогда не красть. Учитель тоже всегда говорил, что нельзя воровать и грабить, нельзя прикарманивать чужое. И я всегда старался быть таким, как они говорили, кристально честным, безукоризненно неподкупным. Что же со мной случилось? Как я мог украсть, как я мог так поступить? Я был примерным учеником, главным школьным активистом, я не мог сотворить такую глупость, стать таким нравственным уродом. Я должен был во всём честно признаться учителю. Но я жутко боялся, что стоит мне признаться, как всему придёт конец.
И вот я терпел. Один урок. Потом второй. Не смел рассказать всё начистоту. Но я боялся, что сестрёнка доложит обо всём сама. Если это случится, что я буду делать? Лучше уж рассказать самому.
Слова так и вертелись на языке, но я держал их глубоко в глотке. Я знал, что сестра – человек добрый, она не станет доносить на меня.
Но я боялся, что кто-то меня видел. Мама часто говорила: не рой другому яму, если хочешь, чтобы люди не знали за тобой дурного, не поступай плохо. Боженька всё примечает. Если меня и правда кто-то заметил, выйдет совсем скверно.
После всех бессчётных «но» на последнем уроке я наконец собрал свою волю в кулак и встал.
Медленно-медленно я поднял руку так высоко, как смог.
– Что такое, Сюэмин? – спросил учитель.
Я встал, понурил голову и сказал:
– Учитель, я…
– Да что с тобой?
Я снова, заикаясь, попытался произнести:
– Я…
Тут сидевшая со мной рядом сестра настойчиво замахала мне рукой, чтоб я ничего не говорил.
Если бы она не стала махать, всё было бы прекрасно. Но тут я зачем-то сказал, что это она воришка!
Ведь я же хотел сказать, что это я!
Все испуганно зашикали.
Сестра завыла, как от боли:
– Ты…
Учитель спросил:
– Что она украла?
– Огурцы, – ответил я. – Она украла огурцы у инвалидки.
Учитель обернулся к сестрёнке:
– Сюэцуй, ты украла?
Она заплакала от обиды:
– Я не крала.
Учитель сказал:
– Если ты не крала, почему он говорит, что крала?
– Наговаривает на меня, хочет меня опоганить.
– Ничего подобного, если не верите, – сказал я, – проверьте её портфель.
Учитель сказал сестре:
– Сейчас я проверю твои вещи.
Что вышло в итоге, в общем можно догадаться.
Я-то думал, что сестра уличит меня в моём проступке, но вместо этого она разрыдалась и в отчаянии выбежала из класса.
Ради меня она без лишних слов приняла всю вину, которую я спихнул на неё.
Я почувствовал, как граната в моих руках рассосалась, и на время успокоился.
Но то, что случилось потом, до сих пор не даёт мне покоя, да, верно, и до самой смерти будет бередить мне душу.
Я знал, что поступил дурно, и не смел вернуться домой. Я просто шатался по горам.
Сестрёнка же давным-давно вернулась домой, потому что ей было стыдно оставаться в школе. Она ждала маму, чтобы поплакаться ей о своей обиде.
Кто мог подумать, что мама не поверит её словам, а скажет:
– Твой брат украл? Очернил тебя? Да ни за что не поверю! Наверняка ты, дурочка, сама украла!
– Я правда не крала, это всё он!
Услышав это, мама взбесилась:
– Хочешь на него всех собак навешать? Да твой брат – лучший ученик во всём уезде, разве он мог украсть? Хочешь испоганить его доброе имя? Посмеешь ещё сказать, что это он, прибью!
Когда сестра поняла, что хоть войди в реку Хуанхэ, всё равно не отмоешься, она закричала:
– Давай, убей меня! Это не я была! Это всё он!
Увидев, что сестра не сдаётся, мама связала её верёвкой, примотала к стремянке и стала зверски молотить бамбуковой палкой.
Она била её и орала:
– Будешь ещё красть?! Будешь сваливать на брата?! Дрянь бесполезная, тварь бесхребетная, позоришь меня на всю округу. Прибью!!!
Если бы не учитель, который как раз зашёл домой пообщаться, мама бы, наверное, точно забила её в тот день насмерть.
Из нас двоих мама всегда больше любила меня. Её нежность ко мне была раз в сто больше, чем любовь к моей сестре.
Сестра была уже на последнем издыхании, когда учитель спас её. На её окровавленном теле не было живого места. Перед тем как потерять сознание и упасть в руки учителю, она твёрдо сказала:
– Я правда не крала, я хорошая.
Учитель заплакал.
– Я верю тебе, Сюэцуй, – сказал он. – Ты хорошая. Мы все верим тебе, что ты хорошая.
Но ни взрослые, ни ребята не поверили. Сестру обзывали воришкой до самого конца начальной школы.
До этого все любили с ней играть. Но после случая с огурцами они перестали брать её в свои игры. Сколько бы я ни говорил, что это я украл, они не верили мне. Все думали, что я выгораживаю сестру. Дети шарахались от неё, как от чумной. За спиной у неё одноклассники говорили, что она крадёт, а с воришками никто играть не хочет. Сестрёнка стояла одна на улице и плакала от отчаяния.
Моя трусость, моё себялюбие, моя подлость погубили сестру. Её детская душа пострадала безвинно. Её чистота была запятнана, и она лишилась всех своих немногих радостей.
Я был подлец!
Когда мама наконец поверила, что это я украл огурцы и обвинил в краже сестру, она чуть не взорвалась от гнева. Мама и представить не могла, что такой малец, как я, станет так гадить другим людям. Она велела мне встать на колени и признать свою вину.
– В детстве уму-разуму не научишь, дурак дураком и вырастет. Ведёшь себя как проходимец! Если раньше не научился за руками следить, так я сейчас возьму верёвку и свяжу тебя как следует, поглядим, как ты станешь воровать!
Сказав это, она и правда скрутила меня верёвкой и страшно избила.
– Идиотина! Хорошему не учишься, ишь, выучился воровать! Сперва по мелочи, а там выйдет настоящий разбойник, если сегодня не переломаю тебе руки, снова примешься за старое!
От каждого маминого удара у меня на теле появлялся алый рубец, который полз по коже, как дождевой червяк.
Ей всё было мало, даже когда бамбуковая палка сломалась у неё в руках.
Мама взяла новую и продолжила бить меня. Она кричала:
– Чёрт с ним, что украл, так ещё имел наглость свалить на сестру! Родной сестре подгадил! Наплевал на закон божеский и человеческий! Да если я с тобой сегодня не управляюсь, станешь всем вредить, гадёныш! Больше всего таких ненавижу!
В конце она уже не могла больше бить меня – у неё страшно ныла спина и болели ноги. Она холодно выплюнула мне в лицо:
– Теперь ты своей сестре по гроб должен! Поглядим, как должок возвращать станешь!
Каждое мамино слово, как кнут, резало по моему телу и по моему сердцу. И по душе. Больнее плети, больнее ножа, острее пилы.
С тех самых пор я понёс свой крест. Я каялся каждый день, каждый день препарировал себя и искупал свой грех. Я твердил себе, что нужно быть благородным и честным, что нельзя строить козни, нужно быть порядочным и великодушным, нельзя вредить другим ради собственной выгоды и ни в коем случае нельзя, чтобы такой позор снова повторился.
Мне кажется, что все нынешние благородство и честность стоят на крепкой основе тогдашнего позора. Все нынешние порядочность и великодушие вырастают из того, как я свалил вину на сестру.
Несмотря на сложные обстоятельства, что так часто встречаются на пути, на предательство и тайные козни я не мщу, не отвечаю злом на зло, а стараюсь быть снисходительным, смотреть на всё с улыбкой. Всё по той же причине.
Сестрёнка своим телом и душой, своим потерянным добрым именем, своей болью выправила мой жизненный курс. Она подарила мне стойкость и бесстрастность, терпимость и выдержку.
Мама, стоя за спиной у сестры, тоже выправляла стрелку моего буссоля.
Голод и бедность нашей эпохи невольно покоробили детскую душу и столь же безотчётно крестили её в новую жизнь.
Это была единственная кража в моей жизни. Единственный подлый поступок. Без мамы – кто знает – я, быть может, сменял бы всю свою жизнь на те огурцы. Изломал свою честь и совесть этой подброшенной добычей.
Мама била меня так зверски два раза в жизни. Она укрепляла мой дух и правила мой нрав.
Глава 11
Когда мама развелась с отчимом, они, конечно, больше не враждовали в открытую, но стали совсем чужими. А когда двое совсем чужих друг другу людей вынуждены жить под одной крышей, такая жизнь, с вечно опущенной головой, совсем не сахар. Как несуразно и глупо, когда над одной кровлей вьются два дымка от огня! Есть в этом безнадёжность и беспомощность, заключённая в словах: плохая жизнь лучше хорошей смерти. Мой школьный учитель, проникнувшись сочувствием к маме, попросил своего родственника, чтобы он пустил нас пожить у себя, в маслодавильне другой производственной бригады. Этот его родственник был бригадиром. Он был человек добрый, справедливый, отмеченный боевыми заслугами, никто бы не посмел пойти против его слова. Он сказал маме: «Сколько хотите, столько и сидите здесь, никто вас не погонит».
Так бесконечный сериал наших сложных отношений дошёл до своего последнего сезона.
За день до нашего переезда мама перестирала отчиму и детям всю одежду и бельё, залатала все дырки. Она штопала и украдкой вытирала слёзы. Столько лет прошло бок о бок с утра до вечера, столько лет они ругались на чём свет стоит – за это время кусок железа уже рассыпался бы от ударов в пух и прах. И вот всему подходил конец.
Отчим зарезал курицу, чтобы мы могли последний раз поужинать вместе. Мама и отчим сидели за столом молча, все в слезах. Мы с отчимовым сыном говорили тепло, безо всякой ненависти, но с болью разлуки. Одна куриная ножка досталась сестре. Вторая несколько раз перекочевала из моей миски в миску отчимова сына и обратно и в конце концов вернулась в кастрюлю. Никто из нас не решился съесть её. Каждый хотел отдать её другому. Да, мы дрались, мы ругались, и так и эдак, но всё ж таки прожили под одной крышей так много лет, что время, как капли, падающие со стрех, успело оставить на нашей твёрдой жизни свой мягкий след.
Домашней утвари у нас считай совсем не было, и безо всяких помощников мы с отчимом разъехались за один день. Когда отчим с домочадцами помог нам разместиться в маслодавильне, мы проводили его почти что до самого дома.
Мама сказала:
– Если плохо за вами ухаживала, вы уж простите.
Отчим ответил:
– Не говори так, это всё я. Из-за меня вы настрадались. Я виноват перед вами.
– Просто судьба расстаться, никто ни перед кем не виноват, – ответила мама. – В жизни никогда не знаешь, как повернётся, лучше смотреть вперёд, чувства от сердца – они не закончатся.
– Это да, так просто уже друг от друга не отлипнешь. Я буду присматривать за вами.
– Да бог с ним, сам за собой следи и ладно. Не слушай, что люди болтают. Вокруг шашечной доски все огого какие мастера.
– Знаю, я в своё время переслушал пересудов. Через них и вас потерял.
– Если нужно будет чего постирать или заштопать, ты приноси. Это не мужское дело.
– Ладно, ты, мать, женщина слабая, если вдруг разболеешься, пришли Сюэмина или там кого с весточкой.
Мама взяла меня и сестру за руки и сказала:
– Дальше мы не пойдём, ступайте с богом. Столько лет сидели у вас на шее, хоть отдохнёте.
– Это мы, вся наша семья, виноваты перед тобой и перед детьми. Плохо к вам относились.
– Что уж сейчас об этом. Столько лет вместе растили детей, и будет.
Отчим остановился и всё никак не хотел идти дальше.
Мама сказала:
– Ступайте, всё равно будем в одной бригаде. Каждый день будем видеться. Идите уже домой, всё в руце божией. Всё равно каждому идти своей дорогой.
Отчим взял за руки детей и, поминутно оборачиваясь, побрёл прочь.
Мама долго стояла с нами в горной впадине и глядела им вслед.
Пройдя немного, отчим вдруг бросился бегом обратно, не посмотрев на нас, обхватил маму руками и всё никак не хотел её отпускать. Они тихо плакали в объятьях.
Эти тесные объятья были печалью и болью разлуки, были раскаянием и утешением. После них отчим уже навсегда потерял нас, лишённый самой ненависти и предметов её приложения.
Эти объятия на горном склоне стали последним кадром их мелодрамы, её скорбным финалом.
Они были как два обугленных временем, но неподатливых пня. Два дерева, покрытых шрамами, пускающихся в бурный рост.
Глава 12
Маслодавильня была очень большая, размером с десяток обычных домов. Мы занимали всего один её угол. Каменные вальки, прессы, песты тихонечко лежали вокруг. Нас встречал неистребимый запах масла.
Мама вместе с нами нарубила много палок для глинобитных стен и укрепила наш маленький уголок. Так у нас появился новый дом, вдали от старой деревни. Он стоял на отшибе, но был завораживающе прекрасен – как на картине. На стыке гор и реки, на самом краешке человеческого жилья, в глубокой долине с отвесными каменными стенами, слетала вниз лента водопада, и зелёные холмы раскрывались по обе стороны от неё, как страницы книги, шуршащей зелёными листами. Этот отвесно падающий водопад был как шёлковая закладка между страницами. Вдоль горной речки стояли несколько ирригационных колёс, трудившихся с завидным спокойствием и усердием. Они оставляли впечатление несуразности, ветхости и при этом совершенной умиротворённости. Колёса вращались, как старики обмахиваются веерами из листьев рогоза: от каждого малого покачивания по их трубкам начинала бежать вода, как слабый ветерок от движений запястья.
Каждый день мама ходила к водопаду умываться и мыть овощи. Искрящийся, как золото, водопад дробил водяные жемчужины в мелкую пыль, рассыпал эту пыльцу по маминому телу и вдувал её в мамины лёгкие. Там было два озерца – одно мелкое и одно глубокое. Глубокое было зелёным до насыщенной черноты, похожим на тёмный нефрит. Мелкое отражало свет весёлой рябью. Колкое солнце ложилось на волны переливчатым блеском, разбивалось на них в бессчётные блёстки и острые иглы света. Иногда из озёр поднималась радуга и, как огромная арка, принимала маму под свой многоцветный свод. Мама полоскала под радугой бельё или, присев на корточки, перебирала и мыла зелень, и её силуэт становился частью умиротворённого и волнующего пейзажа дальних гор. В обрамлении этой картины она сама превращалась в скромную и прекрасную горную богиню.
Стайки горных птиц вылетали из леса, падали в кусты и лакомились дикими ягодами. Больше всего им нравились акебии, вызревавшие в восьмом месяце на длинных лозах. Они были длиной с банан, но толще банана – как два-три банана, сложенные вместе. На вкус они тоже были много слаще. Они свешивались связками, как ветряные колокольчики. Когда плоды созревали, они лопались по шву – сверху вниз: сперва совсем немного, потом всё сильнее и наконец раскрывались полностью. Изнутри торчала наружу снежно-белая мякоть, похожая на цилиндрик пломбира, сказочно-сладкая. Птицы налетали гурьбой, облепляли кусты и принимались выклёвывать белую мякоть. Наевшись до отвала, они рассыпались по земле и по веткам вокруг маслодавильни – пели, гуляли, развлекались. Всё зелёное пространство перед глазами было усеяно скачущими птицами. Порой между ними осторожно проскальзывала белка или две – они бежали покопошиться в маслодавильне, но при малейшем шорохе стрелой бросались прочь и оказывались на верхушке дерева. Дикие кролики были куда медлительнее и ленивее белок. Как заблудившиеся дети, они перебирали лапами с опаской и задумчивостью. В окружении этих зверей и пернатых нельзя было остаться невозмутимым. Я срезал бамбуковую палку, согнул её, как лук, и наделал ловушек для птиц. Если оставить ловушку в лесу, рассыпав немножко зёрен, то всегда можно было поймать пару-тройку горлиц, дроздов или фазанов. В снежные дни, когда птиц было по-прежнему много, мы с сестрой разбрасывали на снегу охапки рисовой соломы, рассыпали пригоршни крупы и заманивали добычу. Мы ставили над крупой перевёрнутое решето для золы и обкручивали вокруг его опоры верёвку, а конец её протягивали до дома. Оставалось только спрятаться и ждать. Как только птахи в поисках корма оказывались под решетом, мы дёргали за верёвку, опора падала, решето с мягким хрупом опускалось на землю и в ловушке оказывалось до десяти птиц за раз. Ничто не могло описать нашу радость. Это было, возможно, самое счастливое время моего детства.
В тот день мама полола со всеми сорняки на кукурузном поле, когда прибежал совершенно ошалелый дядька Вэньгуй и сказал:
– Мой брат умер. Я пришёл сказать тебе. Хочешь с ним попрощаться?
Мама не говоря ни слова опустила мотыгу и пошла с ним. Бригадир закричал:
– Сестра! Сейчас самая страда, куда ты потащилась?
– Умер Сюэминов тятька, пойду с ним проститься, – ответила мама.
– Столько лет как разбежались, какого чёрта?! Не пущу! – отрезал бригадир.
– Так это же Сюэминов родимый!
– Из-за Сюэминова тятьки всё бросишь? Да у Сюэмина этих тятек навалом! На всех не набегаешься!
Все заржали.
Мама знала, что бригадир специально издевается над её многомужеством. Она стиснула зубы и молча заплакала.
Бригадир презрительно хмыкнул:
– Плачет кошка, что мышку съела! Когда это ты, сестра, стала такая высоконравственная? С живым развелась, да с мёртвым спелась!
Тут не выдержала тётушка Ханьин, она гневно закричала бригадиру:
– Тянь Фанкуай! Да что ты за тварь бессердечная? Человек уже УМЕР! А ты всё продолжаешь вставлять палки в колёса! Какой бригадир так себя ведёт? Почему ты не дашь ей пойти? Боишься, что черти утащат?
Бригадир неловко замямлил:
– Не нравится она мне.
Тётушка Ханьин продолжила ругать его, нарочно не понижая голоса:
– Что тебе не нравится? Что она тебе сделала? Гляди, она же не толкует, как ты её достал. Будешь так притеснять её, сниму тебя с должности! Посмотрим, сколько ты пробесишься.
Потом Ханьин развернулась и сказала маме:
– Ступай, сестра! Нечего тут препираться с Фанкуаем! Если чего – я подсоблю. Ты ему не по зубам!
Мама, рассыпаясь в благодарностях, поклонилась тётушке Ханьин, бросила злобный взгляд на бригадира и, не оборачиваясь, пошла вслед за Вэньгуем.
За спиной у неё звучали слова Ханьин:
– Скажу сразу: кто из вас посмеет ещё сделать что плохое сестре или её детям – узнает, что будет!
Дядька Вэньгуй спросил:
– Надо Сюэмина прихватить попрощаться или как?
Мама бросилась бегом в школу, чтоб спросить меня, хочу я пойти или нет. Я сказал:
– Не пойду. Кто это вообще такой? Я не знаю.
– Сходи, сынок, – сказала мама. – Знаешь не знаешь, всё одно твой тятя.
Я ответил:
– Да не знаю я его. Это не мой тятька, у меня нет тяти.
Мама улыбнулась:
– Откуда ж ты тогда такой взялся?
– Понятия не имею.
Мама потянула меня за руку:
– Пойдём, посмотришь на него в последний раз, больше уже никогда не сможешь.
Я вырвал у мамы руку:
– Я и в первый раз его не видел, с чего я буду смотреть в последний? Я уже взрослый, что же он не приходил посмотреть на меня?
– Он не мог.
– Чего это не мог?
– Дорога дальняя, он был занят по горло.
– Я тоже занят по горло, надо учиться.
Учёба была моим самым главным аргументом. Мама больше всего боялась, что я буду плохо учиться, что что-нибудь помешает мне.
Тогда дядька Вэньгуй сказал:
– Да бог с ним, пусть остаётся, он не видал никогда Цзяюня, можно понять.
Мама вздохнула и отправилась на похороны одна.
Когда она добралась до Аоси, тятя уже сиротливо вытянулся на дверной створке. Перед ним сидел только сын другой женщины – мой старший брат.
Мама увидела эту сцену, и у неё похолодело сердце. Слёзы сами полились из глаз.
Она бросилась тяте на грудь и зарыдала в голос:
– Ах ты, мерзавец, паскуда! Ни гроша ломаного на сына не дал, сбежал, гадина, прохлаждаешься там! Вывернулся и плевать хотел, живой ли он, мёртвый! Ладно, на малого тебе плевать, что со старшим-то теперь будет? Ах ты дрянь! Подлюга! Свалил, а им-то теперь как жить?!
Мамины вопли переполошили всю деревню. Тятя умер ровнёхонько два дня назад, но во всём околотке никто так не плакал по нём, сотрясая небеса. Мама плакала нараспев, чеканя слова с невиданным чувством. Притихшая деревня, что слушала муравьиную поступь, враз загорелась бойкой жизнью. Все побросали дела и метнулись к тятиному дому.
Мама обнимала окоченевшее тело и продолжала выть, взывая к небесам:
– Цзяюнь, ох, Цзяюнь! Горемычный ты человек! Пока жил, так на тебе разве что верхом не ездили, а как помер, так и гроба не дождался! Примотали к двери, да так и бросили – никто и закопать не догадается! Ради чего жилы рвал? Так и кончил неприкаянной душенькой! Никто о тебе не позаботился!
Вся деревня знала, на что она намекает. Все стали говорить, что и правда: Цзяюнь пахал на чужого дядю как вол, а как помер, так и бросили за ворота – вот уж как есть позорище.
Они имели в виду тятиного дядьку и его жену. Тятя всю жизнь был им как сын, крутился и так и эдак, только знай им прислуживал, кормил и поил их. Теперь, глядя на его бесславный конец, все еле сдерживали содрогание. Дядька Вэньгуй, который не мог больше на это глядеть, потому и побежал втихомолку за мамой.
Тятины родственники, с которых мать сдёрнула маску при всём честном народе, от смущения распалились и стали брызгать ядом.
Тятина тётка выскочила на улицу и заорала:
– Ты что, напрашиваешься? Суёшь тут нос не в своё дело, ещё в дом ко мне не хватало залезть! Цзяюнь уже помер, а ты что здесь забыла?
Мама вытерла слёзы и перестала плакать. Вместо этого она встретила атаку во всеоружии:
– Цзяюнь – моему сыну родной тятька! Что надо, то и забыла! Именно что забыла! Вы его сожрали с потрохами, а теперь мне и дела нет? Вы его заездили до смерти, а теперь вали откуда пришла? Это мы ещё поглядим! Спрятались там у себя в гнёздышке, набиваете брюхо, а моего сына родного тятьку выкинули на улицу, как бродячую псину, не боитесь, что он придёт по вашу душу?
Тятин дядька тоже подскочил к маме и стал угрожать ей:
– Ты что, правда напрашиваешься?
Мама распрямилась, упёрла руки в боки и бросила на него испепеляющий взгляд:
– Да, напрашиваюсь! Да я костьми здесь лягу, если надо! Давайте, прирежьте меня, если посмеете! – Сказав это, она выставила вперёд голову, как таран, и бросилась на тятиного брата: – Давай, ну, режь! Помру, так хоть с Цзяюнем свижусь!
Тятин дядька вскинул руки и попятился назад. На каждом шаге он обзывал маму стервой.
Мама развернулась к толпе и сказала:
– Если на дороге кочка, то её срывают, если дохлая змея на дороге валяется – всегда найдётся, кто уберёт. Если я стерва, то вы злодеи, пусть нас народ рассудит! Цзяюнь столько лет на вас горбатился, а вы ему даже ящика срубить не могли, даже в погребальный покой не пустили, посадили дитё малое по нему плакать, разве ж это по-человечески?! Пусть люди скажут, куда ваша совесть делась?
Народ стал перешёптываться:
– А ведь верно, гроб-то срубить надо было бы, так на доске да с верёвкой не дело хоронить.
– Теперь и отпеть не пригласишь, да и в погребальный зал надо бы поставить табличку – а то покойник не упокоится.
– Так уж совсем неприлично!
– Бедный Цзяюнь!
От этих слов тятины родственники совсем взбеленились, и тётка принялась орать:
– Цзяюнь помер, так ты варежку и раззявила? Пришла отыграться на нас? Что ж ты сама не срубишь ему гроб да не поставишь табличку в зал?
Мама стояла на своём:
– Ах ты, говно-человек, разлучила нас с Цзяюнем, а теперь кричишь, чтоб я ему гроб купила да в зале с табличками пристроила? Не стыдно тебе? Когда Цзяюнь ещё жив был, ты в него вцепилась, как в несмышлёныша, обманом заставила его на себя спину горбатить, как скотину, – а как помер, так решила, что толку от него меньше, чем от скотины, просто бросила его безо всякой заботы! Дерьмо дерьмом!
Тётка накинулась на маму с кулаками:
– Кого ты сейчас обозвала, а? Попробуй ещё раз скажи – раздеру твой поганый рот!
Мама не отступала:
– Кто себя ведёт как сволочь последняя, тот и дерьмо! Кто Цзяюня высосал досуха, а потом кинул, тот дерьмо дерьмом!
Тётка припечатала маме звонкую пощёчину:
– Убирайся! Какого чёрта ты у нас в доме устроила балаган? Что ж ты не прикрываешься своим ублюдком? Кто знает, с кем ты его прижила? Мы, Пэны, никогда его и не признавали! Вали!
Мама зажала угол рта, из которого бежала алая струйка, и вперилась взглядом в ненавистную тётку. Взгляд этот был как гвоздь, закалённый в огне, полный обжигающего гневного жара. Мама сказала:
– Пусть ты старше, почтенная тётушка, да не вздумай полагаться на это! Если ещё раз посмеешь назвать моего сына ублюдком, посмеешь и дальше не класть Цзяюня в гроб, то не вздумай говорить, что я не уважаю твою старость! Посмотрим, кто кого! Не веришь – проверь!
Мамин взгляд выжег из тётки всю её смелость. Она отступила назад вслед за мужем. Они пятились и кричали:
– Что тебе от нас надо? Сожрёшь нас с потрохами?
Мама перегородила им путь:
– Где уж мне – это ваше дело. Человек умер, а вы пялитесь на него, как в цирке, – сожрали и не подавились!
Тут прибежали двое тятиных младших братьев и их жёны. Увидев их, мама взорвалась. Она закричала:
– Эх вы, братья называется! Старший умер, а вам наплевать! Забыли, кто вас вырастил? Да без него вы бы давно подохли уже от голода и холода!
Они стали извиняться:
– Не шуми, сестрица, нам не наплевать. Мы не могли вмешаться.
– Если вы не могли, кто тогда всем занимался?
– Дядька и тётка.
– Так-то они всё обстряпали?
– Старший брат был им как сын, разве мы ему роднее, чем они? Разве у нас есть право голоса?
– И не надо. Вижу, что вам и дела нет. Хотите выйти сухими из воды.
Дядька и тётка заорали:
– А ты кто такая, а? Одного честишь, другого поносишь, то же мне командирша выискалась! Они всё правильно сказали, мы были Цзяюню как тятька с мамкой, наше слово правое. А тебе никто права вякать не давал, нечего здесь командовать! Убирайся к чертям! Если не уберёшься, поглядишь, какие мы хорошие!
Другие тятины дядьки и тётки вторили им:
– Да, вали откуда пришла! А то останешься без рук без ног!
Мама, словно приняв окончательное решение, снова повернулась к тяте, вытянула вперёд руки и заорала:
– Давайте! Рубите! Рубите руки-ноги! Тятины тётка и дядька завопили младшим:
– Чего вы стоите? Чего пялитесь? Чего не погоните эту ненормальную?
Толпа, подрагивая от ужаса, осторожно приблизилась к маме и силком уволокла её прочь.
Мама билась, кричала и плакала. В конце концов её увели.
Но совсем избавиться от неё не удалось. Мама засела в доме у дядьки Вэньгуя и оттуда потихоньку наблюдала за перемещениями своих врагов.
На западе Хунани хоронили никак не раньше третьего дня. Тятя умер за два дня до того, а значит, оставалось переждать последнее утро, прежде чем опустить его в землю. Мама сидела в доме Вэньгуя и плакала: тяте так и не купили нормального гроба и не соорудили поминального алтаря. Она всё порывалась пойти выяснять отношения, а вся семья Вэньгуя её отговаривала. Его жена говорила маме:
– Сестра, не упорствуй, не лезь в их дела, что тебе до них. Народ правду говорит: ты уже давно не их невестка, и нечего тебе там всё ворошить.
– Ох, сестрица, я и впрямь не могу глядеть на всё это убожество, ведь никому до него дела нет! Цзяюнь всё детство растил своих братьев и сестёр, потом обхаживал дядьку с тёткой, ни дня не провёл в довольстве, а как помер, так стал неприкаянной душою. Как подумаю – аж сердце разрывается!
Жена Вэньгуя сказала:
– Да что толку, сестра? Ты не из их семьи, права голоса у тебя нет, да и потом, кто ты им вообще? Что ты можешь сказать? Такая уж у него судьба, сам кашу заварил.
– Как ни крути, он всё равно моему сыну родной тятька! Жена Вэньгуя не унималась:
– Да и что с того? Они того не признают, смирись уже! Смогла повидать его после смерти, проводить в последний путь, уже, считай, добро. Не зря столько лет вместе жили!
Услышав это, мама совсем расклеилась и зарыдала в голос.
– Не судьба нам была остаться вместе! Если бы не эти его дрянные родственнички, чтоб им пусто было, мы бы не расстались. Он бы так рано не умер.
Жена Вэньгуя ответила:
– Всё в руце божией. Сдержи своё горе, сестра. Дело это не твоё, и нечего тебе упорствовать.
Вместе с мужем они убеждали маму смириться:
– Успокойся, сестра, мы поможем его сыну выстоять ночное бдение. Сегодня последняя ночь, все братья и сёстры Цзяюня придут помочь.
Когда они ушли к дому Цзяюня, мама подождала, пока жена Вэньгуя крепко уснёт, тихонько выбралась из кровати и пошла на гору напротив того места, где лежал Цзяюнь. Всю ночь она просидела там, охраняя покой его души.
Перед тятей разожгли большой-пребольшой костёр. Все братья, накинув куртки, сидели вокруг огня и болтали. Мой брат Сылун в траурной холщовой одежде жёг ароматные палочки и траурные деньги. В те годы власти требовали сокрушить «четыре пережитка»: старые обычаи, старую культуру, старые привычки, старые идеи – и разделаться с суевериями. Когда кто-то умирал, больше не разрешали устраивать поминальную церемонию с барабанами и гонгами. В такую ночь было особенно холодно и страшно. Крики сов казались особенно надрывными.
Пышущий жаром костёр согревал тятиных братьев, но не мог отогреть его окоченевшего тела. Не мог он и расплавить лёд на мамином сердце. Мама говорила, что пока тятя не умер, хотя он и не кормил меня ни дня, ей всё же казалось, что у меня есть тятя. Она всегда мечтала, что однажды он примет меня в объятья. Теперь же, когда он умер, я стал настоящей безотцовщиной, и все мамины мечты погасли. Ярко пляшущий вокруг тяти свет не мог рассеять тьму, что сгущалась вокруг её тела. Он не мог вновь зажечь тятино остановившееся сердце. Мама была одна. Она плакала и вспоминала – в эту самую последнюю тятину ночь. Эта ночь была длиннее всех ночей её жизни.
Когда тятю подняли на гору, мама побрела в отдалении следом. С каждым шагом она роняла слёзы. Вся их с тятей любовь, вся ненависть, все обиды, все мысли тянулись, как волокно на изломе, от меня, их сына, и только сейчас наконец оборвались, как последняя ниточка музыки.
Горы были тихи. Тятя был тише тихого. Мама, похожая на глиняного истукана, бесшумно стояла перед тятиной могилой. Она положила на неё пару камней, насыпала горсть земли и всё смотрела, словно хотела что-то сказать. Когда она устало привалилась к могильному холму и заснула, что она хотела тем самым сделать? Хотела ли взять тятю за руку и вытянуть его обратно к свету? Хотела ли нащупать тятино сердце, пообещать ему, что когда я вырасту, то приду к нему на могилу с поклоном? Или хотела, чтоб он узнал наконец, что в её сердце, на самом донце, всегда оставался он один?
Не знаю.
Знаю только, что её выставили из дома, так что она не могла по-настоящему стать частью его похорон, не могла в открытую проводить его в последний путь.
Глава 13
Не успела мама вернуться в Шанбучи, как пришло новое известие: после тятиной смерти мой единокровный брат Сылун остался беспризорным, без опоры и без помощи. Он жил, как дикая обезьянка, никому не нужный. Новость эту тоже принёс дядька Вэньгуй.
Мама спросила:
– А что ж его дядьки?
Вэньгуй ответил:
– Да им самим не управиться, на него уже сил не хватает.
– А материны братья?
– Они тоже при своих заботах.
В те годы женщины рожали как курицы – прилежно и быстро, в каждом дворе бегало по пять-шесть ребятишек. Тяжелые дни бедности от этого обилия детей становились ещё безрадостнее.
Мама вздохнула и сказала дядьке Вэньгую:
– Ты спроси у Сылуна, пойдёт он ко мне или нет. Я возьму его. У Вэньгуя глаза на лоб полезли от удивления.
– Ты? – спросил он, не веря собственным ушам.
Мама улыбнулась:
– Не веришь? Я возьму!
Вэньгуй сказал:
– Я верю. Кто бы мог подумать!
– Да что тут думать, – сказала мама. – Сылун мне, конечно, никто, зато Сюэмину он старший брат, самый что ни на есть родственник. Считай, кровное родство.
Вэньгуй сказал:
– Даже если Сылун Сюэмину как родной брат, тебе он не сын. Разве тебе не обидно будет кормить его за свой счёт?
– Отчего обидно? Да, он мне не сын, но я и так растила его несколько лет, и он звал меня мамой, был мне как родной. Сейчас ему лет десять с лишком, выходит, у меня появится старший сын – так я приобрету, а не потеряю!
Вэньгуй ответил:
– Ты одна тащила на себе двоих – та ещё задачка, как теперь троих потащишь?
– Да ну, – сказала мама, – одним прибором больше. Что мы едим, то и он есть будет. А одежда – ну, сошью ему потом новую, а Сюэмин за ним донашивать станет.
Вэньгуй тяжело вздохнул:
– Кто мог знать, что Цзяюнь тебя бросит, а ты потом станешь растить его сына. Если бы все его братья и сёстры были б как ты, Сылуну не пришлось бы мучиться.
– Ступай, – ответила мама. – Сперва договорись с Сылуном, захочет он или нет.
– Сперва надо спросить у его двоюродных бабки и деда!
– Да им и дела до него нет, с чего это надо у них спрашивать?
– Всё равно спросить надо. Он их, Пэнов, а не твой. Скажут ещё, что ты его украла.
Мама подумала и решила, что он прав. А потому она стала спокойно ждать вестей от дядьки Вэньгуя.
Ждала-ждала, но вестей не было. Тогда мама отпросилась у бригадира и решила отправиться к Вэньгую сама – узнать, как и что. Её никак не отпускала мысль о Сылуне и о его бедной младшей сестре, которая умерла просто потому, что всем было на неё наплевать. У неё болело от переживаний сердце. Она страшно боялась, что с Сылуном тоже может случиться что-то непоправимое.
Бригадир по старому обыкновению стал орать на маму:
– Экая ты дрянь!
Мама ответила:
– Дрянь так дрянь. Потеряю день и ладно. Мне нужно сбегать к Вэньгую.
Дядька Вэньгуй встретил её с кислой миной:
– Оставь это дело, сестра. Ничего не выйдет.
– Это ещё почему? Они не согласны?
– Да, они никогда не пойдут навстречу.
– Я же снимаю с них такое бремя, чего они не соглашаются?
– Говорят, даже если Сылун помрёт от голода и холода – это не твоё дело. Говорят, чтоб ты и думать забыла о нём. Ещё сказали, что ты хорь, ходишь по их куриную душу, замышляешь недоброе.
– Что я замышляю?
– Говорят, хочешь Сылуна сбыть с рук, уморить его хочешь.
Услышав это, мама просто взбесилась:
– Да чтоб их предки до восьмого колена в гробу перевернулись! Хотела как лучше – и на тебе пожалуйста! Думают все такие, как они, змеи подколодные! Я это так просто не оставлю!
Все родные дядьки Вэньгуя стали уговаривать её успокоиться:
– Да что ты им сделаешь? Что ты кому докажешь? Сылун тебе действительно никто, думаешь, тебе под силу их переспорить? Не ищи себе лишних приключений!
– Неужели всем наплевать, как они относятся к Сылуну? Дядька Вэньгуй сказал:
– Сылун им всего лишь внучатый племянник, не родной внук – вроде и надо бы заботиться, а с другой стороны – оставь всё как есть, и тебе никто ничего не скажет. У тебя ничего не выйдет.
– А как же власти? Неужели им тоже нет дела до сироты?
– Да уж позаботились – в бригаде ему выделили пайку, ни на крошку не обманули.
– А кто будет обстирывать? Кормить? Следить за учёбой?
– Сам Сылун и будет. Бабке с дедом нет дела, а значит, и никому другому дела нет.
Мама разочарованно спросила:
– Что ж мне делать – просто смотреть, как он помрёт с голода?
Жена Вэньгуя ответила:
– Не помрёт. Будь покойна.
Мама сказала:
– Пусть так, а если вдруг заболеет, не дай бог, как его сестра? Помрёт, так никто и знать не будет.
– А это уж от судьбы зависит, – отозвалась жена Вэньгуя. – Только от Сылунова везения.
Мама подумала и снова спросила:
– А Сылуна-то спрашивали? Он сам как?
Вэньгуй ответил:
– Не спрашивали. Раз старшие не велят, что толку? Дети взрослым не указ.
Глядя, как скривилась мама, всё семейство Вэньгуя снова принялось её уговаривать:
– Лучше уж оставить всё как есть, они никогда не разрешат тебе забрать его, просто забудь об этом и всё.
Мама оставила все разговоры. Она спряталась в бамбуковой роще за домом и оттуда наблюдала за Сылуном.
Когда замурзанный, неряшливый Сылун, нечёсаный и неумытый, возник перед её глазами, мама заплакала: «Грех-то какой, Цзяюнь! Сын твой похож на чёрта! Чтоб тебе там не лежалось!»
Каким бы холодным ни был день, Сылун ходил везде босиком, в тонкой одежде. Маме было холодно смотреть на него, до дрожи. Он сбегала в уездный город и купила ему пару обуви, а потом бесшумно поставила её перед его воротами.
Потом она ушла.
Чего она никак не могла и представить, так это того, что Сылун будет ждать её за околицей соседней деревни. Когда мама увидела зачуханного Сылуна, она побежала к нему и закричала:
– Сылун! Что ты здесь делаешь? Ты ждал маму?
Завидев её, Сылун с плачем бросился ей навстречу. Он кричал:
– Мама!
Мама обхватила его руками:
– Ты ждал меня, сынок? Ждал меня?
Сылун, растирая слёзы, ответил:
– Я хочу пойти с тобой, мама! С тобой! Не бросай меня!
Мама плакала от радости. Она погладила Сылуна по голове и сказала:
– Будет, сынок, мама тебя не бросит. Идём со мной, прямо сейчас идём! Брат тоже тебя дожидается! Будете вместе!
Она взяла Сылуна за руку и побежала.
Всю дорогу Сылун, сияя от счастья, говорил маме, как он обрадовался, когда увидел её в деревне, как он не смел обратиться к ней, как он боялся сказать двоюродным бабке с дедом и как он побежал ждать её на балке. Едва рассвело, он уже был там, на верхнем крае долины, и ждал.
Когда они дошли до Янчао, там была ярмарка. Мама купила в палатке с лапшой миску супа и паровой пирог для Сылуна, чтоб он наконец наелся вдосталь.
Потом она отвела его в цирюльню и обрила налысо.
Сытый и чистый Сылун словно стал совсем другим человеком – симпатичным и бодрым.
Как говорят в сериалах – вот уж нарочно не придумаешь: злобные дед и бабка тоже приехали на ту же ярмарку. Они тут же увидели маму и Сылуна. Бабка подскочила к маме, вцепилась ей в полу и заорала:
– Какого чёрта ты притащила сюда Сылуна? Торгуешь «живым товаром»?
Мама просто онемела от испуга и удивления. Она не сразу нашлась, что ответить. Сылун испугался так, что скользнул за неё, как мышка.
Когда бабка увидела это, она пришла в бешенство.
Она вытащила Сылуна на свет божий и вмазала ему оплеуху:
– Ах ты гадёныш, глаза-то разуй! Столько лет тебя растили – всё зазря?! Сбежал с этой гадиной! Да ты знаешь, кто она? Она твою мамку уморила, и тебя не пожалеет! Пойдёшь с ней – она тебя живьём сварит и сожрёт!
Увидев это, мама закричала:
– Не бей его, слышишь! Это не он со мной пошёл, это я его увела!
– Какого чёрта ты его сюда притащила? Хочешь его продать, как поросёнка?
– Вот уж нет, хочу, чтобы он побыл у меня пару дней.
– Ишь как сладко поёшь, не первый день на него глаз положила, да? Думаешь, я не знаю, что ты задумала?
Тут Сылунов дед тоже вставил своё слово:
– Всё, что ты Вэньгую толковала, он нам рассказал. Думаешь, мы тебя не раскусили?! Гадина!
– Да мне его просто жалко! Ничего я не замышляю! Я бы его взяла, растила бы вместе с Сюэмином. Если он станет по вам скучать, я его вам пришлю.
Бабка Сылуна злобно сплюнула:
– Ха! душевнобольную тут из себя корчишь!
В окружении всё прибывающей толпы она болтала всё проворнее: просто молола языком, как будто лопала хлопушки – шлёп-шлёп- шлёп. Перед народом она напустила на себя уверенный и смелый вид и вещала с полным сознанием собственной правоты:
– Поглядите, почтенные, эта девка сто лет как развелась с нашим сыном, их пути давным-давно разошлись по разным краям. Сынок-то наш помер, горемычный, так она решила у меня внука единственного отобрать. Внук-то не её будет, а прежней невестки, вот и рассудите, почтенные, какое право она, мачеха, да ещё разведённая, имеет право забирать себе моего внучека?
Все сказали:
– Никакого.
Победившая старуха с пеной у рта продолжала гнуть своё:
– Чего у неё об неродном сердце болит? С чего она, мачеха, да ещё разведённая, хочет его себе, что затаила она в душе? Небось, хочет продать его, а если не продать, так сделать себе прислугой! Скажите, почтенные, разве бывают на этом свете добрые мачехи? Да нет ни одной!
Все закивали головами.
Мама почувствовала, будто стоит голой перед толпой. Она сгорала от стыда.
Плача, она сказала:
– Сердце человека познаётся временем, разве я такая? Я хотела только взять Сылуна на пару дней к себе. Разве я стала бы продавать его? Стала бы делать из него прислужника?
Старуха хмыкнула носом:
– На свете ни один злодей не сознается, что он злодей. Иди к чёрту! Если не отвалишь, донесу на тебя за похищение!
Мама ничего не могла поделать. Размазывая слёзы, она пошла с обидой прочь.
Она увидела, как за спиной у деда с бабкой бьётся и кричит Сылун. Мама знала, что он хочет уйти с ней. Ей ужасно хотелось подбежать и обнять его, как-то успокоить, но она не смела. Не могла. Под разрывающие душу крики Сылуна мама побрела своей дорогой.
Много лет спустя, рассказывая эту историю, мама всегда обливалась слезами и тихо всхлипывала. Она не могла забыть ту купленную Сылуну пару ботинок.
– Твой брат Сылун в такую рань поднялся ждать меня… Уж не знаю, видел ли он потом ещё хоть раз в жизни эти несчастные ботинки? Не знаю, не положил ли на них кто-нибудь глаз? А такие славные были ботиночки!
Это были кеды ТунТун с высоким задником.
– Почему же ты не передала их с дядькой Вэньгуем? – спросил я.
Мама ответила:
– Тогда у всех было много ребятишек, жизнь была тяжёлая. Я боялась, что Вэньгуй возьмёт их себе.
Я улыбнулся:
– Ох, мама, широкая у тебя душа, а всё по мелочи считаешься.
Глава 14
В тот год сентябрь выдался жаркий. На заре вставали багровые облака, раскалённое небо обжигало кожу. Всё было спалено и выжжено, над самой землёй поднимались клубящиеся язычки – прозрачные, подёргивающиеся, как струйки воды. Почва покрылась трещинами, как изжаренная в масле. Поля пошли от сухости расщелинами. Река была обескровлена. Скот, встречая людей с водой, бежал за ними следом. Неустанно трудившиеся днём и ночью водяные колёса утратили всё своё очарование – они остановились и спали тяжёлым сном, как изнурённые болезнью.
Мама с сестрой возвращались с ярмарки домой. Была уже поздняя ночь, они шли с факелом. Несколько искр нырнуло в сухие камыши, и они занялись огнём. Мама с сестрой спешно стали сбивать пламя, но у них ничего не получалось – горы всё лето стояли сухие, солома и тростник, казалось, готовы были загореться от одного взгляда. Повсюду были крутые обрывы, спастись было некуда.
Мама подумала, что на сей раз всё кончено. Она пустила пал по склонам, и за это полагался если не расстрел, то верное пожизненное заключение.
Огонь буквально мгновенно охватил всё вокруг, осветив полнеба алым румянцем. Нужно было бежать, иначе они бы сгорели заживо. Мама крикнула сестре:
– Беги скорее! Беги по горе вниз, возвращайся кружным путём, чтоб тебя никто не увидел! Если кого встретишь – прячься! Из дома никуда не ходи. Если кто спросит, скажи, что мы давно дома, что шли другой дорогой. Ни в коем случае не говори, что мы здесь проходили! Не говори, что мы выпустили огонь на свободу! Иначе нас засадят за решётку!
Сестра не хотела уходить, она умоляла, чтобы мама пошла с ней. Сестре было всего девять лет, она боялась идти ночью одна. Мама хлестала огонь и кричала:
– Если ты не уйдёшь сейчас, мы обе здесь сгорим, никто из нас не увидит больше твоего брата! Не бойся, мама живучая, мама знает, как себя защитить! Мама – взрослый человек, сама пустила огонь, сама и должна справиться, я не могу уйти, если уйду – это преступление!
В этот миг гул человеческих голосов уже напоминал клокотание котла. Народ из Шанбучи бросился вниз на помощь с вёдрами, тазами и косарями.
Мама решительно толкнула ревущую сестру:
– Беги! Столкнёшься с людьми – сразу прячься! Ни в коем случае не говори, что мы шли этой дорогой! Ни в коем случае не говори, что это мы пустили огонь!
Сестра кивнула и, обливаясь слезами, побежала другой дорогой вверх по горе. Сверкая босыми пятками и разметав по плечам косицы, она бежала из объятий шумящего огня прямиком во тьму.
Мамин силуэт рисовался алым на фоне красного бушующего пламени. Она самозабвенно тушила огонь.
Когда народ из деревни добежал ей на помощь, огонь уже перекинулся на её одежду, она еле дышала. Ещё немного, и мама бы сгорела.
После пожара коммуна послала милицейского комиссара Кун Цинляна расследовать его причины. Кто-то донёс, что видел маму с сестрой, которые шли в сумерках по дороге, – очень может быть, что это именно они подпустили красного петуха.
Мама ни в какую не хотела признаваться. Она билась лбом об землю, каталась по земле и выла, угрожая самоубийством. Всё твердила, что народ притесняет её и её сироток.
Потом, спустя годы, сестра с улыбкой говорила мне:
– Мама тогда прикидывалась очень уж похоже, словно её и вправду зря обидели.
А мама отзывалась:
– Так всё ради вас, поганцы! Если бы меня упекли за решётку, вы бы околели с голоду, кормили бы уже горных волков.
«А признаваться нельзя было, – говорила она. – Это был чистый подрыв социалистического производства, “действующая контра”. Признаться было равносильно смерти».
Из-за маминого упорства это дело о поджоге так и осталось нераскрытым. Бригадир подозревал, что виной всему происки классовых врагов. Он даже велел посадить под арест несчастную старуху-помещицу.
Собрания по критике классово чуждых элементов устраивали всякий раз на площадке для просушки зерна. Этот раз не стал исключением. На площадке под ночным небом горело несколько шумных костров.
Старуху выволокли на сцену под началом бригадира и командира батальона милиции. Огонь освещал алым светом их взволнованные лица. Лицо у бригадира было довольно-таки лошадиное, а от возбуждения оно скривилось так, что стало ещё сильнее напоминать морду лошади. Чудно было и то, что командир батальона, который всегда был дружелюбным и мягким, тут тоже казался полон ярости: неописуемый гневный свет делал его молодое красивое лицо пугающим и тревожным.
Три огромных костра словно собрали без остатка весь свет – они будто хотели сжечь этот ночной мрак, но не могли его развеять. От них только отлетали зёрнышки искр, как кровавые слёзы пожара.
В молодости старуха-помещица была известной на всю округу красавицей. Она очень следила за своим внешним видом. На каждое собрание по критике и самокритике она одевалась как на праздник. Бригадир от этого просто бесился. Он всякий раз хватал её за волосы, чтобы она осталась растрёпанной. Он рвал ей седые пряди и кричал: «Ещё выделываешься, стерва, я тебе покажу, как выделываться!»
Она слишком любила всё красивое, почти что кичилась своей аккуратностью, и действительно это было уже чересчур. Бригадир раздражённо спросил:
– Говори, дрянь, это ты подпалила горы?
– Нет.
– Если не ты, то кто? У нас только одна помещица, только ты одна ненавидишь наш социалистический строй, только ты хочешь, что всё было по-старому!
– Да я-то что? Я ничего не хочу.
– Если не ты, то кто – наши крестьяне-бедняки? Я думаю, это всё ты – не можешь жить своей буржуйской жизнью, вот и решила нас всех спалить к чертям!
Старуха-помещица всё отрицала:
– Да нет же, нет, это не я.
– Тогда скажи, кто это, – велел бригадир.
– Не знаю.
– Не хочешь сознаваться? Дерзишь тут? А ну на колени! – с этими словами бригадир пнул её ногой, и она упала.
Распластавшись на земле, старуха завыла:
– Это не я, ты всё наговариваешь.
Бригадир снова остервенело пнул её:
– Ещё смеешь заикаться, что это я наговариваю? Да это точно ты! Ты как камень из сортира, воняешь на всю деревню, ты преступница!
Старуха была простужена и сильно кашляла. Она растянулась на земле и больше уже не вставала, а только постанывала.
Бригадир решил, что она прикидывается, и снова пнул её.
Тут мама выскочила вперёд и закричала:
– Не бей её, это я пустила огонь!
Все переглянулись. Оказывается, это и впрямь была она!
Бригадир посмотрел на неё безумными глазами:
– Ты? Я так и знал, что это ты!
Тут закричала тётушка Ханьин:
– Не лезь, сестра! Сегодня мы разбираемся с помещицей, а не с тобой!
Мама знала, что Ханьин хочет защитить её, и сказала:
– Это правда я, я не специально.
Бригадир подскочил к маме, навернул вокруг неё пару кругов, и ехидно произнёс:
– Гляди, какая смелая, созналась-таки!
Мама сказала:
– Я знаю, что ты только и думаешь, как спустить с меня шкуру. Я ничего поперёк не скажу, пусть так. Только отпусти её.
Бригадир заорал:
– Отпустить? Это где такое видано! Ты сказала, а я побежал делать? Да кто ты такая! Жалко стало помещицу? Да вы с ней одна шайка-лейка! Иди, иди сюда к позорному столбу, отделаем вас обеих!
Кто-то тут же протянул деревянную табличку. Бригадир углём нацарапал на ней «У Вторая» и поставил огромный крест.
Верёвки не нашлось, и бригадир велел маме просто взять её в руки и встать рядом со старухой-помещицей.
Когда бригадир и все деревенские стали кричать: «Долой диверсантку У Вторую!», моё сердце просто разрывалось от горя.
Мамочка, зачем же ты созналась, раз ты даже сестре не велела сознаваться? Как нам было теперь смотреть людям в глаза? Если тебя посадят, как мы станем жить?
Мама сказала нам:
– Нужно жить и работать на совесть, за свои поступки надо отвечать самому, нельзя сваливать на других. Если ошибся – сам и расхлёбывай свою баланду. Старуха-то была больная, если бы они забили её насмерть, мама бы на всю лишилась покоя. Нужно иметь хоть каплю сочувствия. И вы запомните, дети, можно делать всё что угодно, но всё – по совести.
После непродолжительного избиения Кун Цинлян встал и сказал:
– Ладно, я думаю, она не нарочно. Теперь она получила знатный урок. Слава богу, что погорело немного, всего полсклона, там одна трава да тростник, на деревья огонь не перекинулся. Коллектив не пострадал. На этом дело и закончим, больше чтоб никто об этом не говорил.
Раз комиссар, ответственный за поимку преступника и общественный порядок, так сказал, бригадиру ничего не оставалось, кроме как умыть руки. Деревенские дружно согласились – всем хотелось лечь спать пораньше. Никто, по-хорошему, и не собирался забивать маму насмерть, все хотели только доискаться до того, как было дело. Теперь, когда это стало ясно как день, проблема исчезла сама собой.
Страшный огонь опалил полсклона, и в этом огне закалился мамин несгибаемый характер, мамино доброе, пламенное сердце.
Холодный ветер «культурной революции» овеял эту сцену, и после него осталось искреннее тепло человеческой доброты.
Если бы не Кун Цинлян и не тётушка Ханьин, мама, вернее всего, оказалась бы за решёткой. Если бы бригадир заморочился всерьёз и подал бы бумагу в высшие инстанции, мама не вышла бы так легко сухой из воды.
Глава 15
Я учился в школе № 2 уезда Гучжан, которую организовала гучжанская коммуна Цетун.
Всякий гучжанец хранит в душе самые радостные, почти священные воспоминания о ней. Хотя это была просто сельская школа, тогда она была овеяна славой и гордостью. Репутация школы № 2 была много выше, чем у школы № 1. Дети главы уезда и секретаря окружного парткома не гордились тем, что учились в школе № 1, но гордились тем, что учатся в школе № 2. И сегодня семь десятых всех талантов и чиновников округа – всё сплошь выходцы из средней школы № 2. Восемьдесят процентов руководителей различных бюро в округе Гужан заканчивали эту школу.
Гучжанская школа № 2 располагалась на границе между двумя уездами – Гучжаном и Баоцзином, в деревне Цетун. За школой была гора, невысокая и похожая на тигра. Слева и справа тянулся горный кряж, длинный и напоминающий дракона. Посередине между кряжами, как коврик, расстилался небольшой участок ровной земли – большая редкость в горном Гучжане. Гучжанская школа, защищённая со спины внушительным тигром, облепленная с боком драконьими жилами, развёрнутая лицом к ровной широкой дороге, могла похвастаться поистине завидным месторасположением. Люди до сих пор часто вспоминают, как выигрышно она была расположена. Немудрено, что с таким добрым фэншуем там было столько талантов.
Школа была построена на горе. На самом нижнем ярусе располагались две огромных баскетбольных площадки. На втором была терраса, вся сплошь поросшая зелёной травой. На третьем стояло само здание – длинное, двухэтажное, вмещавшее двенадцать классов. Перед классами была спортплощадка. На спортплощадке росло два коричных дерева и одна груша. Коричник буйно шумел кроной круглый год и никогда не сбрасывал листву. Осенью весь школьный двор наполнялся удивительным ароматом его цветов. Старая груша была высотой в несколько десятков метров, она, как столб, устремлялась в голубое небо. Я никогда после не видел такой крепкой и высокой груши. Наверняка у неё была душа. Сбоку от классов был большой актовый зал. Обычно им не пользовались, только если шёл дождь там проводили общие собрания всех классов или спортивные занятия. Зал и правда был очень большой – туда можно было поместить несколько тысяч учеников, и ещё осталось бы место. Поэтому ползала было отдано под столовую. Там было пять-шесть окошек, через которые выдавали еду. Едва заслышав звонок, мы пулей вылетали из класса и неслись в актовый зал, чтобы поскорее занять очередь. Сбоку от столовой была кухня, где кашеварили повара. Позади учебных корпусов высилось здание учительского общежития. В нём было всего шесть комнат: в четырёх из них жили учителя, а две посередине отводились под классы. Совсем позади торчало несколько общежитий для учеников и совсем крохотный учительский дом.
Нам, детям, было лет по десять с небольшим. Мы не чувствовали никакой разобщённости с молодыми холостыми учителями. Мы часто безо всякой надобности шастали к ним в общагу; когда они садились есть, мы пристраивались тоже. Как только у учителя появлялось дома что-нибудь вкусненькое, мимо тут же, как мышки, пробегали его ученики, и он звал их запустить свои палочки в общую миску. Это стало обычным делом и вошло в привычку: ученики сметали всё на своём пути, вылизывая тарелки до блеска. Самые бойкие и успешные ребята оставляли у учителей свою одежду, обувь, деньги и другие личные вещи – это считалось в порядке вещей. Учительский дом становился их домом. У каждого из нескольких десятков школьных учителей жило в комнате по нескольку школьников. Директор школы Лу Кайвэнь не был исключением. Учителя относились к нам хорошо, и мы ничего не забывали. Родители были в курсе, а потому часто совали нам редьку, капусту, всякую дичь для учителей. Самые благодарные приходили отдать должное учителю собственной персоной. Учителя, конечно, никогда не пользовались ситуацией: наоборот, они всеми способами старались оставить родителей в гостях, накормить их и напоить. Все жили как одна большая семья и заботились друг о друге. Весть об этом, разумеется, разнеслась, как ветер, по всему уезду. Уезд был маленький, и всяк в нём знал, какие отличные учителя достались школе № 2, какие там стояли порядки и как славно учились ребята. Школа № 2 стала Меккой для каждого родителя и школьника, золотыми вратами в светлое будущее. Педагоги любили своих учеников, а ученики уважали наставников, на уроках они вели себя образцово. Фактор учителя ещё никто не отменял: чем лучше педагог относился к своим подопечным, тем веселее они бежали в классы, тем усерднее учились; к плохому учителю никто не спешил на уроки. Все учатся немножко для себя и немножко для учителя. А потому в школах часто бывает так: у хорошего учителя все ребята демонстрируют большие успехи, что бы за предмет он ни преподавал. У жестоких учителей, которым нет дела до детей, не бывает хороших учеников.